
Зарождение хоррора в европейском кинематографе
Введение
Окончание Первой мировой войны в 1918 году не вернуло людям мир в том виде, в котором они знали его прежде. Европа с царившим в ней прежде прогрессом вышла из конфликта сломленной и преображённой до неузнаваемости. Война, не имевшая прецедентов по своему масштабу и разрушительности, оставила после себя не просто руины городов, но и глубокий, незаживающий шрам на коллективной психике целого поколения. Этот период, отмеченный трагедией миллионов, стал катализатором одного из самых парадоксальных феноменов в истории культуры: стремительного зарождения и расцвета хоррора в кинематографе.
Реальность послевоенной Европы была выстлана травмой и смертью. Но помимо мёртвых, война создала новую, зловещую категорию живых: миллионы солдат, вернувшихся с фронтов с неизгладимыми шрамами на психике. Врачи диагностировали у них «военный невроз» или «контузионный шок» — состояние, которое сегодня мы назвали бы посттравматическим стрессовым расстройством. Эти мужчины страдали от кошмаров, тремора, приступов паники и эмоциональной отчуждённости, становясь призраками в собственных домах с пустыми взглядами и полной неспособностью жить в мире, в который они вернулись с фронта. Не менее шокирующими, чем психические, были физические увечья, с которыми солдаты возвращались с фронта — ампутированные конечности, изуродованные войной и картечью лица стали частью привычной жизни Европы начала 20-го века.


«Вампир» (реж. Карл Теодор Дрейер)
Зарождение хоррора в европейском, и в особенности немецком, кинематографе было, таким образом, не развлечением, а попыткой выпустить на экран невыразимые ужас и боль, дать им имя и форму, чтобы попытаться понять и пережить. Через призму сверхъестественного и жуткого послевоенное общество вглядывалось в своё самое тёмное отражение, и рождённые в этом процессе образы навсегда изменили ландшафт мирового кино, доказав, что самые страшные монстры часто рождаются из самой что ни на есть реальной человеческой боли.
Цель данного исследования — проанализировать зарождение хоррора в европейском кинематографе, посмотреть, какие темы, корни которых зачастую уходят в травму Первой Мировой войны, поднимаются в этих фильмах, а также показать, что монстры и ужасы, заполонившие экраны в 1920-х годах, не были порождением чистой фантазии. Вампир, высасывающий жизнь из жертв, был воплощением «птицы смерти», уносящий жизнь целого города, как прежде война. Сомнамбула, слепо выполняющий приказы, стал олицетворением марионетки в руках тоталитарной власти. Голем, глиняный слуга, — трагическим образом человека, превращённого в орудие. А искривленные, неестественные миры, в которых они существовали, были прямым отражением искажённого восприятия реальности, утратившей все прежние ориентиры. За основу анализа в исследовании берутся не только немецкие фильмы 1920-х годов, такие как «Кабинет доктора Калгари», «Носферату», «Руки Орлака» и другие, но и, например, более поздний фильм «Вампир» 1932 года режиссера Карла Теодора Дрейера — как пример влияния травмы и на более позднее кино других европейских стран.
«Кабинет доктора Калигари» (реж. Роберт Вине, 1920)
В немецком городке Хостенволль загадочный доктор Калигари демонстрирует публике сомнамбулу по имени Чезаре, предсказывающего будущее. В это же время в городе начинается серия загадочных убийств. Главный герой Франц после убийства своего друга, случившегося после предсказания Чезаре, начинает подозревать в них Калигари. Его расследование приводит к разоблачению доктора: тот использует Чезаре для совершения убийств, чтобы на практике воспроизвести древнюю легенду о властителе-гипнотизёре. Однако в конце зрителей ожидает неожиданный поворот: Франц, рассказывающий эту историю, оказывается пациентом психиатрической лечебницы, лечащий врач которой — это и есть доктор Калигари. Таким образом, в финале зритель сталкивается с неоднозначным выбором того, кому же верить в этой истории, ведь Франц оказывается не самым надежным рассказчиком. Но и заканчивается фильм на тревожной ноте: Калигари над связанным смирительной рубашкой Францем объявляет, что понял причину его бреда и теперь сможет его излечить, зловеща глядя в камеру.


1 — изображение города Хостенволль, 2 — ярмарка с палаткой Чезаре «Кабинет Доктора Калигари» (реж. Роберт Вине, 1920)
Сценарий написали Ганс Яновиц и Карл Майер, которые задумали его как метафору бессмысленной жестокости государственной машины, с которой они столкнулись во время Первой мировой войны. По их мнению, зомбированные жители Германии в течение предшествующего десятилетия были такими же сомнамбулами, как Чезаре, управляемыми властью, представляемой в фильме в лице Калигари. В их оригинальном сценарии не было обрамляющей истории с сумасшедшим домом, которую в конечном итоге добавил Роберт Вине. Финал был прямолинейным и обличительным: Калигари-тиран оказывался побеждённым и помещенным в психушку, где его самого связывали смирительной рубашкой.
Однако режиссёр Роберт Вине, опасаясь, что такая концовка будет слишком радикальной для зрителей и цензуры, по предложению продюсера Эриха Поммера, добавил обрамляющую историю. Именно это решение — сделать Франца ненадежным рассказчиком — превратило фильм из социального памфлета в глубокое философское высказывание о природе реальности и власти, вызвав ожесточённые споры со сценаристами, хотя для многих зрителей этот ход лишь добавил фильму глубины.
Немецкий кинокритик Зигфрид Кракауэр полагал, что через историю Чезаре, действующего под гипнозом Калигари, Яновиц и Майер стремились донести свое видение одержимости немецкого общества авторитаризмом и его готовность бездумно следовать за своими лидерами в водоворот войны.
Криволинейные, острые, неправдоподобные декорации фильма создают ощущение ирреальности происходящего «Кабинет Доктора Калигари» (реж. Роберт Вине, 1920)
Съемочные декорации фильма были созданы художником-экспрессионистом Вальтером Реригом. Именно они — искривленные, острые, неестественные, закрученные в бесконечные спирали — создают пугающий и одновременно абсолютно завораживающую визуализацию сознания психически больного человека. Одновременно с этим сразу же проходит параллель с последствиями войны: привычный мир разрушается, искажается, становясь реальностью кошмара, в которой нет стойкой почвы под ногами и ощущения безопасности. Интересный эффект также создается за счет того, что декорации даже не пытаются казаться похожими на реалистичные — герои будто блуждают в страшном сне, что создает контраст с добавленной обрамляющей историей в начале, которая происходит на природе в абсолютно реалистичном ключе.
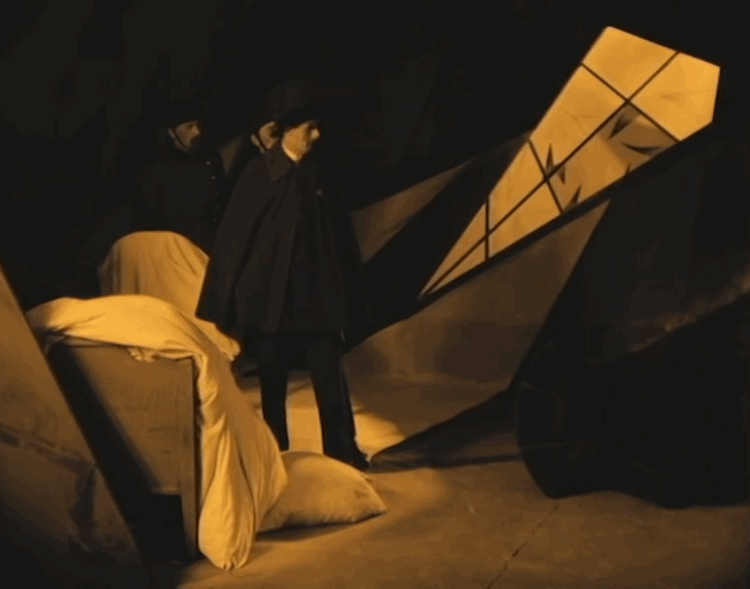
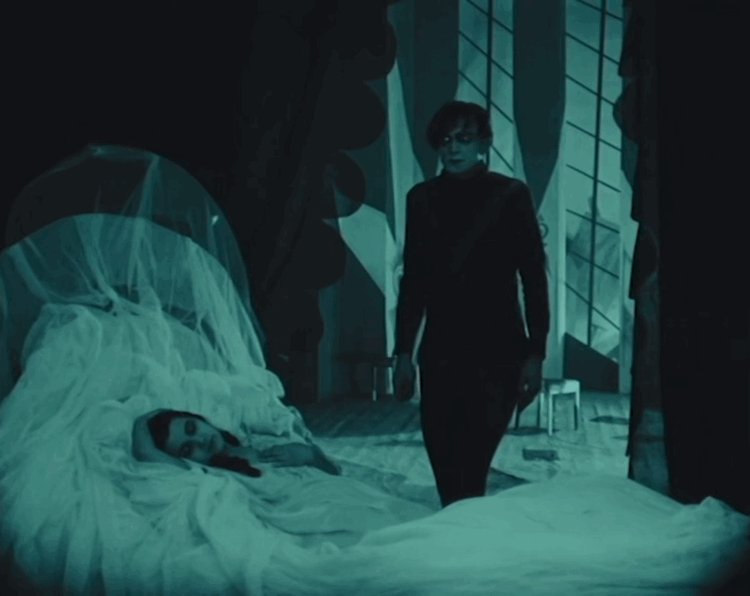
1 — сцена убийства председателя ярмарки с окном, напоминающем лезвие, 2 — сцена в комнате Джейн, в которой декор на колоннах вторит ножу Чезаре «Кабинет Доктора Калигари» (реж. Роберт Вине, 1920)
В визуальном оформлении фильма доминируют острые формы и это не случайно: мало того, что они создают постоянное ощущение угрозы, но вместе с тем рифмуются с одним из важных предметов в повествовании — ножу, которым Чезаре убивает своих жертв, будучи в трансе. Так, в сцене с убийством первой жертвы окно в стене буквально повторяет силуэт занесенного над телом ножа, а в сцене с проникновением Чезаре в комнату Джейн декор на колоннах и даже сам силуэт сомнамбулы вторят вытянутой форме лезвия.


Грим Вернера Крауса в роли Калигари и Конрада Фейдта в роли Чезаре «Кабинет Доктора Калигари» (реж. Роберт Вине, 1920)
Не менее важны в фильме и образы героев, каждый из которых благодаря гриму находится будто бы в маске, как, например, Конрад Фейт, играющий Чезаре, с абсолютно белым лицом, черными губами и темными треугольниками под глазами, похожими на рембрандтовские треугольники, которые придают образу особенную драматичность и похожи на слезы. И весь его черный костюм на худой вытянутой фигуре, и медленная ломаная пластика — все это вторит образу марионетки в руках диктатора Калигари, образ которого оказывается не менее ярким с темными бороздами на таком же выбеленном лице и большими круглыми очками.
«Носферату, симфония ужаса» (реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1922)
Если «Калигари» был кошмаром сюрреалистическим, рождённым среди нарисованных экспрессионистских декораций, то «Носферату» стал кошмаром более натуралистичным, вторгшимся в реальный мир. Фильм Фридриха Вильгельма Мурнау является вольной адаптацией романа Брэма Стокера «Дракула». Компания Мурнау не смогла получить права на книгу, поэтому были изменены имена персонажей (Дракула стал Графом Орлоком) и некоторые детали сюжета, но в особенности концовка. После выхода фильма вдова Стокера выиграла суд, и все копии «Носферату» подлежали уничтожению. Фильм был спасён лишь чудом, что кажется символичным — вампира, олицетворяющего саму смерть, невозможно уничтожить до конца.
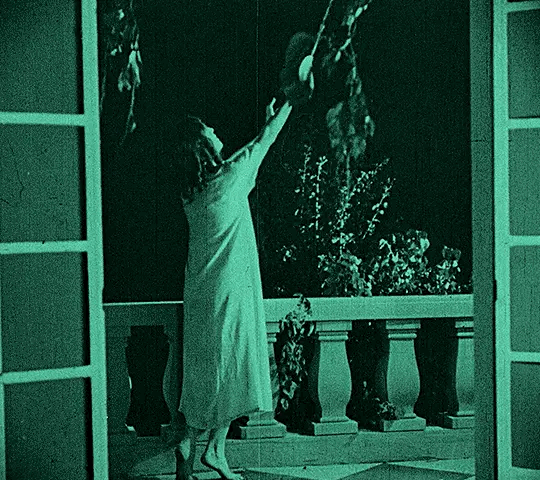



«Носферату, симфония ужаса» (реж. Фридрих Вильгельм Мурнау)
Сюжет картины строится вокруг молодой семейной пары Хуттера и Эллен, живущих в городке Висборг. Вступительный титр говорит нам о том, что действие происходит в 1838, когда в город пришла «великая смерть», ассоциации с которой у зрителей картины 1922 года и у самих создателей были связаны с войной 1914 года.
Вероятно, при просмотре парализовал зрителей и сам образ Носферату — мертвеца, которого Хуттер во время одной из прогулок по замку находит спящим в гробу, существующего на границе между жизнью и смертью. И более того — этот мертвец, лик которого в итоге прочно отпечатался в поп-культуре и ночных кошмарах не одного последующего поколения, приносил за собой в город массовую смерть, воспоминания о которой также были слишком свежи в сознании народа.
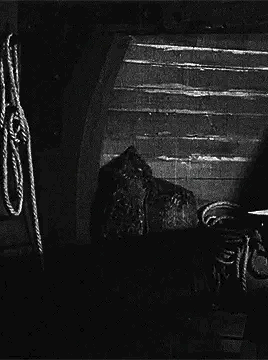

Пугающий образ Носферату, которого сыграл актер Макс Шрек «Носферату, симфония ужаса» (реж. Фридрих Вильгельм Мурнау)
«Великая смерть», упоминаемая в начальных титрах, по мнению прошедших через ужасы войны Мурнау и Альбина Грау стала важнейшим элементом современной реальности. Финал фильма не зря так сильно отличается от концовки его прообраза — романа «Дракула», в котором влюбленные воссоединяются и их счастливая жизнь продолжается. У Мурнау Эллен жертвует собой и позволяет нетопырю выпить свою кровь, чтобы на рассвете тот исчез в лучах яркого солнца. Главная героиня спасает тем самым весь город ценой собственной жизни и оставляет мужа оплакивать их недолгое счастье, которое унесла «птица смерти» в лице Носферату.
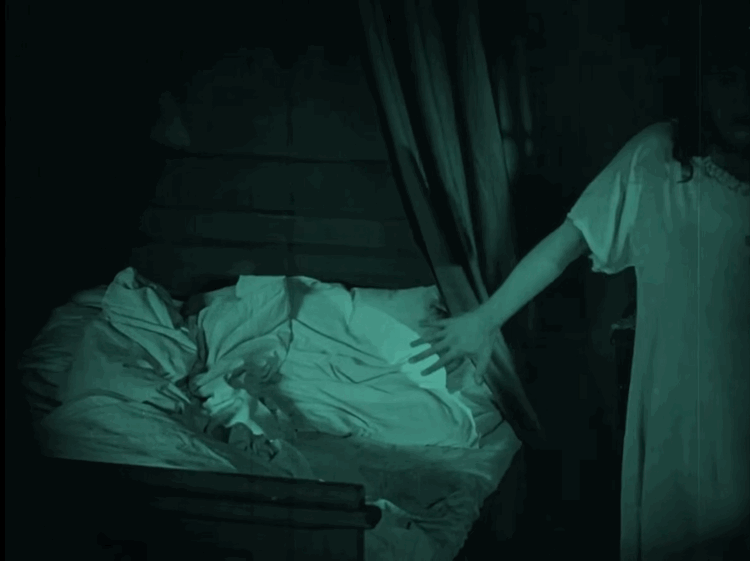

Невероятный прием в финале с тенью от руки, сжимающей сердце Эллен, благодаря которому мы понимаем, чем все закончится «Носферату, симфония ужаса» (реж. Фридрих Вильгельм Мурнау)

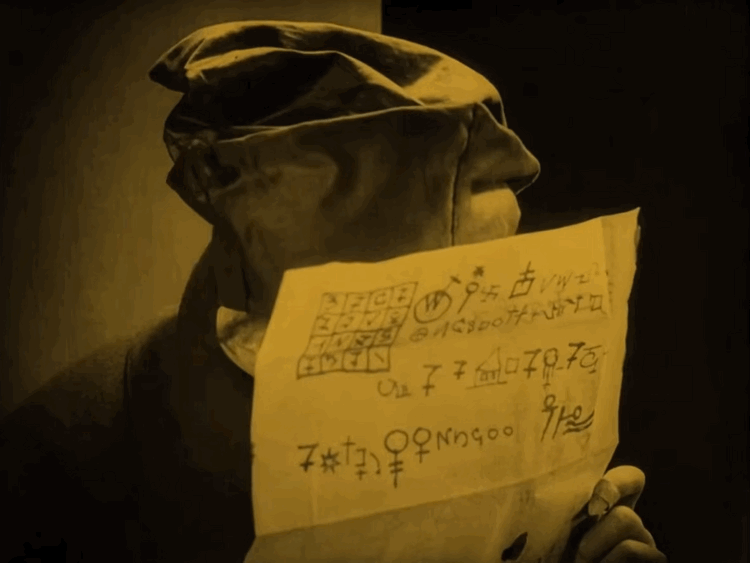
Алхимическая символика, которую можно заметить на договоре купли-продажи «Носферату, симфония ужаса» (реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1922)
Оформлением «Носферату» занимался Альбин Грау. Очень часто при обсуждении фильма он говорил о том, что в основу фильма положен образ «вселенского вампира, высосавшего кровь миллионов», имея ввиду войну, оставившую после себя горы трупов. Это было связано не только с его собственным фронтовым опытом, но и с интересом Грау к оккультизму, который стал популярен после 1918 года. Поэтому в фильме довольно много алхимической символики, особенно заметной на кадрах с договором купли-продажи, который сначала держит в руках Кнок, а потом и Орлок.


Легендарная сцена с тенью Носферату, проникающей к Эллен «Носферату, симфония ужаса» (реж. Фридрих Вильгельм Мурнау)
Мурнау и Грау использовали светофильтры, которые превращали яркий день в темную ночь, и нижние софит, чтобы тень вампира заполняла собой весь экран. Таким образом тень работает как мощнейший инструмент ужаса. Сцена, где тень Орлока медленно ползет по стене, настигая Эллен, заставляет затаить дыхание. Создается ощущение, что настоящая угроза не материальна, она абстрактна и неостановима. Вы не можете сразиться с тенью, а лишь наблюдать, как она ползёт к вам, зная, что это конец. Это была метафора для поколения, пережившего войну: смерть была вездесущей тенью, нависающей над всей жизнью.

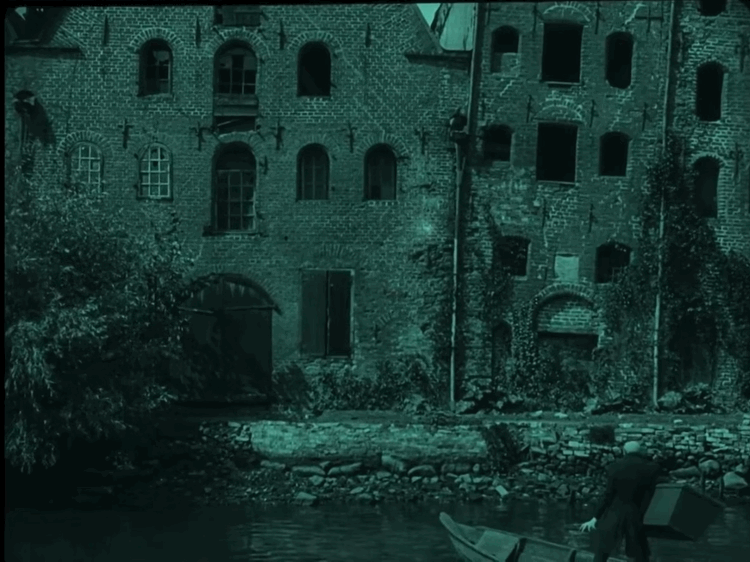
Съемка на реальных улицах и в интерьерах 1 — сцена в замке Орлока, 2 — прибытие Носферату в дом, который он купил в Виссборге «Носферату, симфония ужаса» (реж. Фридрих Вильгельм Мурнау)
В отличие от «Калигари», Мурнау снимал в натурных интерьерах и на реальных улицах. Арочные своды замка Орлока, тесные улочки города, настоящие дома — всё это делало мистическую историю пугающе достоверной. Ужас в «Носферату» не заключён в сюрреалистичный мир, он проникает в знакомую, повседневную реальность и отравляет её. Этот прием усиливал ощущение уязвимости: если чума может прийти в такой идиллический город, значит, нигде нет безопасности.
«Голем, как он пришел в мир» (реж. Пауль Вегенер, 1920)
Пауль Вегенер в течение нескольких лет работал над существовавшей уже четыре столетия легенде о Големе, но сохранилась лишь одна из трех частей. В ней повествуется о раввине Лёве, который, чтобы спасти еврейское гетто от изгнания, при помощи темной магии создаёт из глины могучего Голема. Изначально послушный, Голем помогает отменить указ императора о переселении евреев из гетто. Но когда его начинают использовать в личных целях, существо выходит из-под контроля, начинает буйствовать, убивать и похищает дочь раввина. Гибель гиганта наступает, когда ребёнок, которого тот берет на руки, случайно вырывает из груди Голема магический амулет, дарующий жизнь. В финале глиняный великан превращается в безжизненную статую. Созданное для защиты, чудовище гибнет из-за человеческих амбиций и собственной неспособности к истинной жизни.
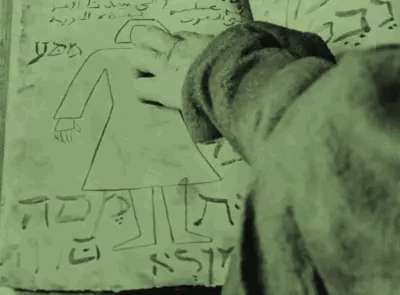
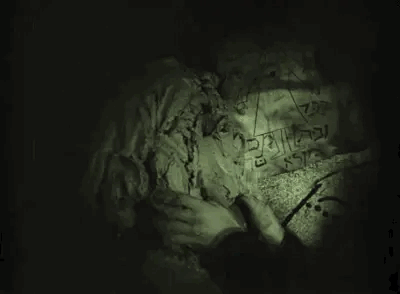
Процесс создания Голема раввином Левом при помощи темной магии «Голем, как он пришел в мир» (реж. Пауль Вегенер, 1922)
«Мировая война — это гигантский глобальный голем, который поднялся и пошел на глиняных ногах, круша все на своем пути», — говорил Исроэл Башевис Зингер. В его описании и соучастники насилия, и жертвы предстают частью огромного чудовища: «Каждый из нас превратился в кусочек глины на теле исполинского голема».
В фильме Вегенер, будучи соавтором сценария, режиссером и исполнителем главной роли, хотел отразить свой фронтовой опыт. Он тоже ощущал себя существом из глины, жертвой колдовства, которое после опыта войны будто бы нужно было постичь заново. В 40 лет он вступил добровольцем в немецкую армию, уже будучи известным актером. В октябре Вегенер попал на передовую и вскоре принял участие в тяжелых боях. После одного такого боя из их подразделения в 49 человек в живых остались только четыре бойца, навсегда отмеченных печатью ужаса. В письмах с фронта Вегенер регулярно писал, что страдает от «нервного переутомления сердечной мышцы» или «острой сердечной слабости на нервной почве».
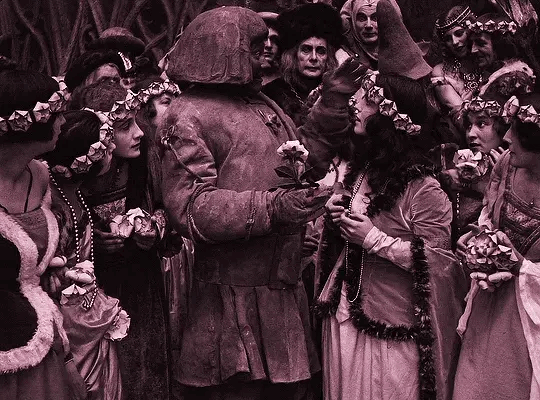

Режиссер и актер фильма Пауль Вегенер в роли Голема «Голем, как он пришел в мир» (реж. Пауль Вегенер, 1922)
Вегенер часто говорил, что жизнь в окопах покрыта глиной и представляет собой орудие ужаса и объект ужаса одновременно. В своих дневниках он описывал целые дни, проведенные «в бурлящей глине».


Сцена с Големом, тащащим дочь раввина за косы по улице «Голем, как он пришел в мир» (реж. Пауль Вегенер, 1922)
«Голем» Пауля Вегенера наглядно демонстрирует, как послевоенное общество осмысляло травму «человека-винтика системы». Фильм раскрывает главную тревогу эпохи: создание послушного орудия, которое оборачивается против своего создателя. Через миф о глиняном исполине режиссёр исследует механизм тоталитарной власти, рождающейся из страха и унижения. Голем — это метафора «пушечного мяса», солдата-марионетки, лишённой воли массы, которую система пробуждает для защиты. Его трагическая сущность отражает судьбу поколения, превращённого войной в инструмент, а затем отвергнутого обществом.
Декорации фильма напоминают экспрессионизм в камне «Голем, как он пришел в мир» (реж. Пауль Вегенер)
В отличие от нарисованных и плоских декораций «Калигари», мир «Голема» — это трёхмерная, монументальная, но не менее искажённая архитектура, которую можно охарактеризовать как «экспрессионизм в камне». Художники-постановщики Ханс Пёльциг, Курт Рихтер и Рохус Глизе создали гетто как вавилонскую башню — с гигантскими, наклонными стенами, узкими, как ущелья, улицами и остроконечными крышами. Эта причудливая архитектура создает ощущение, будто она давит на персонажей, символизируя их социальную изолированность и постоянное чувство угрозы извне.
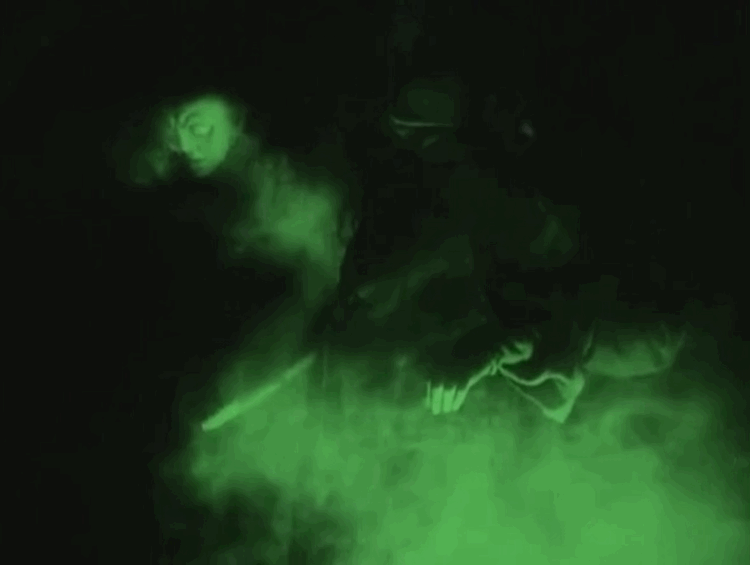

Сцена с появлением демона Астарота «Голем, как он пришел в мир» (реж. Пауль Вегенер, 1922)
Оператором фильма выступил Карл Фройнд — будущий оператор «Метрополиса» и режиссёр «Мумии». Интересно, как кульминационная сцена оживления в фильме отличается по свету от всего остального повествования: ритуал происходит в полумраке, свет выхватывает из тьмы лица участников, магические круги и, наконец, появляется демон Астарот. Использование наплывов, дыма и визуализированного заклинания, выходящего дымом из уст демона, создаёт ощущение сакрального ужаса. Возможно, это самая «экспрессионистская» сцена из всего фильма.
«Руки Орлака» (реж. Роберт Вине, 1924)
Талантливому пианисту Франциску Орлаку делают революционную операцию по трансплантации кистей рук после того, как собственные он теряет в ходе ужасной железнодорожной аварии. Впоследствии выясняется, что пересаженные кисти принадлежали недавно казнённому маньяку-убийце Вассеру. По мере заживления Орлак обнаруживает, что его новые руки живут собственной жизнью: они обладают собственной волей и тягой к насилию. Фильм становится спуском в ад его собственной психики, разрываемой между его мирной сущностью и чужеродным злом, привитым ему вместе с новой плотью.
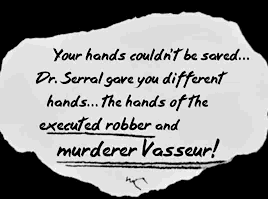

«Руки Орлака» (реж. Роберт Вине, 1924)
В «Руках Орлака» безумие, которое в «Калигари» было свойством вселенной, переместилось внутрь человека. Травма больше не проецируется на искажённые декорации — она воплотилась в самой плоти героя. Его руки — это внешнее проявление того неконтролируемого, чужеродного начала, которое было имплантировано в него, как война была имплантирована в психику целого поколения


Конрад Фейдт великолепно передал это ощущение чужеродных, не принадлежащих ему рук, живущих по собственным насильственным желаниям «Руки Орлака» (реж. Роберт Вине, 1924)
«Руки Орлака» стали следующим логическим шагом в эволюции немецкого экспрессионизма после «Кабинета доктора Калигари». Режиссёр Роберт Вине, вновь обратившись к теме безумия, перенес фокус с внешнего, искажённого мира на внутренний, искалеченный мир человеческой психики, воплощённый в теле. Фильм был снят в 1924 году, когда шок от войны начал сменяться более глубоким, личностным осмыслением её последствий — того, что мы сегодня называем посттравматическим стрессовым расстройством. Сценарий был написан Вине в соавторстве с Людвигом Нерцом, и в нём центральной стала идея «выученной мышечной памяти» и телесной травмы. Это была прямая отсылка к тысячам ветеранов, которые вернулись с фронта с непередаваемым опытом насилия, ставшим частью их плоти и подсознания. Оператор Гюнтер Крампф, ученик и последователь визуальных новаторов «Калигари», разработал для фильма собственную систему света и композиции, которая должна была выразить эту новую, камерную тревогу.


Акценты на руках Конрада Фейдта, играющего Орлака «Руки Орлака» (реж. Роберт Вине, 1924)
Пластика Конрада Фейдта в этой роли — шедевр внутреннего раскола. Его тело становится полем битвы между светом и тьмой, где тьма сосредоточена в гипнотической, неотвратимой грации его кистей. Кадры, где его руки, освещенные отдельно от тела, тянутся к жертве, являются одними из самых сильных образов в истории кино, предвосхитившими психологический хоррор

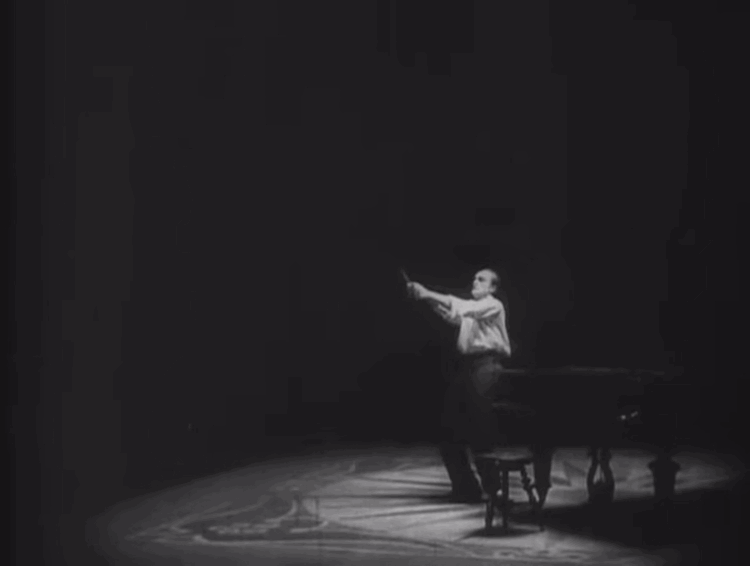
Интерьеры фильма будто бы все больше поглощают главного героя во тьму с течением повествования «Руки Орлака» (реж. Роберт Вине, 1924)
Оператор Гюнтер Крампф использует жёсткий, направленный свет, который не столько освещает, сколько рассекает пространство и тела. Он выхватывает из тьмы прежде всего руки. Они часто оказываются самым ярким объектом в кадре, их белизна и выразительность превращают их в отдельного главного героя наравне с Орлаком, вокруг которого в свою очередь в течение фильма с нарастанием градуса напряжения и тревоги сгущаются черные тени, будто он находится не в интерьере, а в вакууме этой кромешной тьмы, пожирающей его все больше.
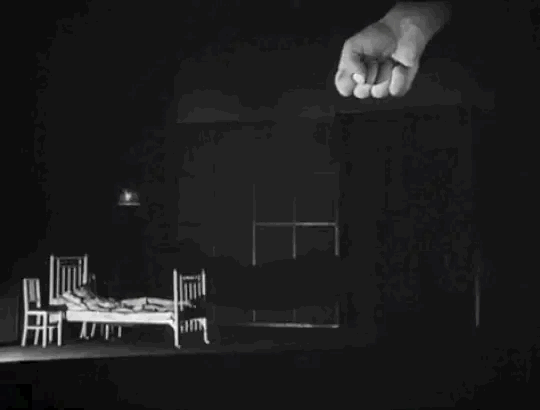
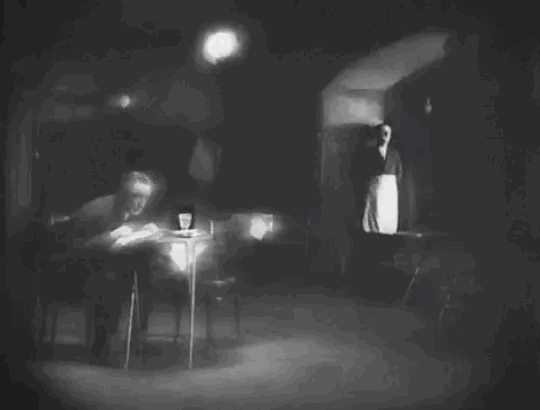
1 — сцена с огромной рукой, спускающейся к кровати Орлака, 2 — сцена с расфокусом в таверне «Руки Орлака» (реж. Роберт Вине, 1924)
Также интересной деталью кажется соотношение героя к интерьерам, в которых он находится — часто в пространстве огромных, полупустых темных комнат человеческая фигура оказывается совсем маленькой, что создает ощущение беззащитности и даже наталкивает на мысль, что масштаб беды героя настолько огромен, что он ощущает себя ничтожным перед ней. В отличие от «Калигари», декорации здесь не нарисованы, но их неестественность от этого не уменьшается, подчёркивая, что кошмар проник в саму ткань реальности. Этот же дисбаланс и постепенное помешательство главного героя подчеркивается и невероятными визуальными приемами — посреди больничной палаты ему мерещится лицо убийцы и огромная рука, спускающаяся к его кровати, а также пространство таверны в середине фильма вдруг начинает оплывать, будто у нас самих помутнело перед глазами.
«Ведьмы» (1922, реж. Беньямин Кристенсен)
Фильм представляет собой беспрецедентную кинолекцию в семи частях, сочетающую игровые реконструкции, документальные вставки и даже демонстрацию артефактов, в определенный момент ломающую четвертую стену. Его сюжет прослеживает историю ведовства от Античности до современности Кристенсена, показывая эволюцию представлений о колдовстве. Центральная часть — масштабная реконструкция средневековых судебных процессов над ведьмами, включая пытки, шабаши и массовую истерию. Фильм завершается провокационным сопоставлением: Кристенсен соотносит массовые обвинения в ведьмовстве и сжигания на кострах с популярным в его время явлением женской истерии, пользуясь популярным в то время психоанализом.
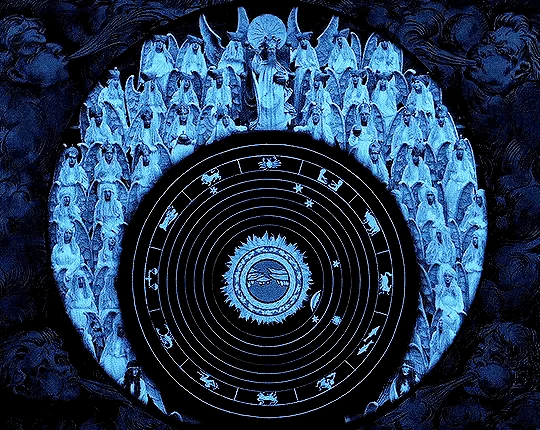
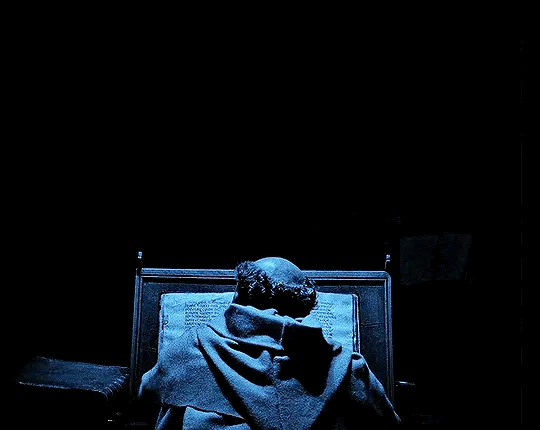
1 — вставка с астрологическим календарем, 2 — Беньямин Кристенсен в образе Дьявола «Ведьмы» (реж. Беньямин Кристенсен, 1922)
Идея фильма родилась из личного увлечения Беньямина Кристенсена, бывшего врача и актёра, мрачной иконографией и историей европейского ведовства. Во время посещения Музея истории медицины в Копенгагене он столкнулся с коллекцией средневековых гравюр, изображавших пытки ведьм и шабаши. Эти изображения, а также глубокое изучение трактата «Молот ведьм» (1487 года), произвели на него столь сильное впечатление, что он загорелся желанием создать не художественный вымысел, а научно-популярный фильм-исследование, который разоблачил бы суеверия и показал подлинные — психиатрические и социальные — причины «охоты на ведьм».
Кристенсен стёр грань между энциклопедией и кошмаром. Его камера становится то микроскопом для изучения гравюр, то глазом Сатаны на шабаше. Это не кино в привычном смысле — это кунсткамера, где экспонаты оживают и требуют от зрителя ответа
Реконструкция Средневековья в песочно-землистых тонах, создающее реалистичное впечатление «Ведьмы» (реж. Беньямин Кристенсен, 1922)
«Ведьмы» показывают уникальный подход к хоррору с документальной точки зрения, препарируя ужас и массовый психоз как социальные патологии. Фильм становится метафорой механизма коллективной истерии, когда общество, переживая тяжелые события, ищет виноватых и козлов отпущения. Кристенсен блестяще демонстрирует, как работает цепная реакция — один донос порождает лавину таких же, как пытки рождают фантастические признания и как страх управляет людьми, заставляя иногда делать невообразимые вещи и приходить к совершенно сюрреалистичным умозаключениям.
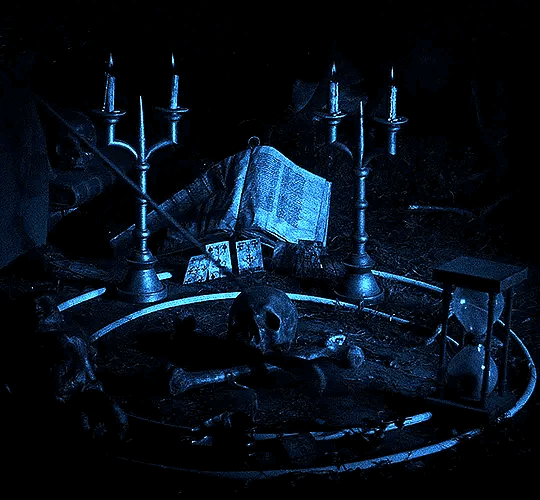


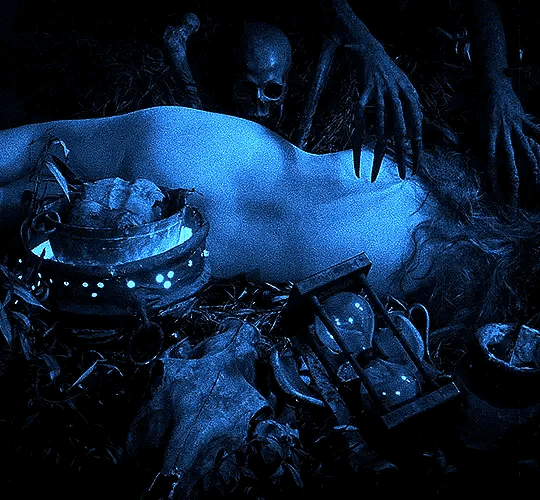
Контрастирующая со средневековой реконструкцией, яркая и мистическая сцена шабаша ведьм «Ведьмы» (реж. Беньямин Кристенсен, 1922)
Фильм поражает богатством приемов и художественной непосредственностью. В нем много вставок реальных гравюр, а дальнейшее повествование перемежается полным острот голосом автора посредством титров, детально реконструированными сценами из средневекового быта в песочно-серийном фильтре, создающем ощущение документальности, и сильно контрастирующих с ними, снятыми в завораживающе-синем фильтре, сценами мистического ведьминского шабаша, которые поражают непосредственностью и даже какой-то игривостью, соседствующей с ужасом. Кристенсен, сам сыгравший Дьявола, требовал от актеров предельной экспрессии. Он заставлял их изучать позы и гримасы со старинных гравюр, чтобы добиться эффекта «ожившей истории».
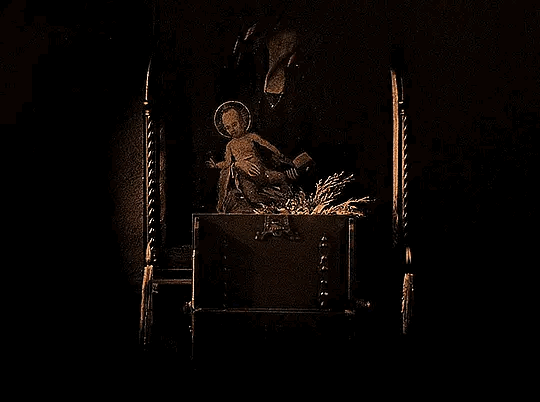

Одержимая проникнувшим в монастырь Дьяволом монахиня, на примере которой видна яркая мимика, которую Кристенсен требовал от актеров «Ведьмы» (реж. Беньямин Кристенсен, 1922)
Одна из самых интересных и новаторских сцен в фильме — это сцена с демонстрацией реальных пыточных инструментов, использовавшихся для того, чтобы подозреваемые женщины признались в том, что они ведьмы. Она создает иллюзию академической достоверности, заставляя зрителя верить, что все повествование фильма основано на исторических документах. И сразу же следом Кристенсен ломает четвертую стену — он показывает реальную актрису вне образа с одним из орудий пыток, говоря за кадром: «Не буду пересказывать ужасные признания, которые я выбил из молодой леди меньше, чем за минуту».

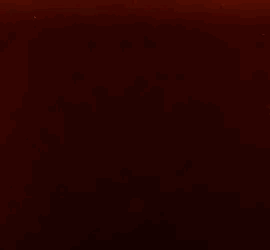
Сцена с актрисой вне образа, демонстрирующей одно из орудий пыток «Ведьмы» (реж. Беньямин Кристенсен, 1922)
«Вампир: Сон Аллана Грея» (1932, реж. Карл Теодор Дрейер)
Молодой человек по имени Аллан Грей, увлечённый мистицизмом и оккультизмом, забредает в далекую деревню, где снимает гостиницу и вдруг становится свидетелем сверхъестественных событий: посреди ночи к нему является мужчина, оставляя конверт с надписью «открыть после моей смерти». Уже на следующее утро Аллан находит поместье этого незнакомца, в котором он живет с двумя дочерьми, одна из которых страдает странным недугом, отмеченным укусом на шее. Оказавшийся в эпицентре этой истории Аллан Грей не может понять, где заканчивается реальность и начинается его собственное безумие, навеянное страхами и суевериями. В итоге он сам становится орудием в руках нечистой силы, а границы между сном, галлюцинацией и реальностью окончательно стираются.
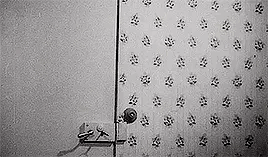
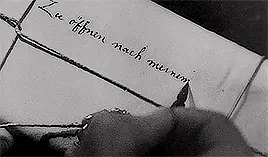
Детали сцены в гостиничном номере, когда ключ вдруг начинает двигаться в замочной скважине, и потом появляется загадочный мужчина, пишущий завещание на конверте «Вампир» (реж.Карл Теодор Дрейер, 1932)
Карл Теодор Дрейер не имел прямого отношения к войне, но оставленная ею культура хоррора и царящая в мире атмосфера оказала на него сильное влияние. Дрейер хотел вызвать у зрителя особенный страх, вызванный не определенным объектом угрозы (как, например, Носферату): поначалу создать у зрителя ощущение, что он сидит при обычном освещении в обычной комнате, где вся мебель на своих местах и вообще в обстановке нет ничего потустороннего. «И вдруг нам говорят, что за дверью лежит покойник — и атмосфера сразу же меняется». С наступлением сумерек самые обыденные качества, ранее делавшие комнату скучной и унылой, приобретают зловещий оттенок.
Дрейер снял не фильм ужасов, а фильм-сомнамбулу. Его «Вампир» — это не существо, а состояние души. Мы погружаемся в него как в тяжёлый сон, из которого невозможно проснуться. Это кино не пугает — оно гипнотизирует, и в этом его дьявольская сила. Публика, ожидавшая крови и клыков, оказалась не готова к такому метафизическому насилию
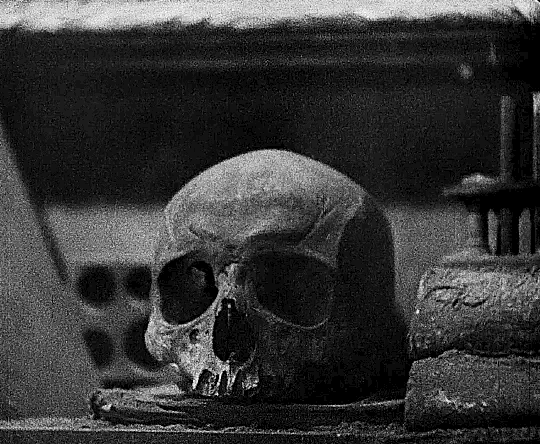

Фильм наполнен множеством деталей в форме скелетов и черепов, создающих мрачную и некомфортную атмосферу «Вампир» (реж. Карл Теодор Дрейер)
Фильм продолжает традиции немецкого экспрессионизма, но делает это в своем самобытном ключе: ощущение нереальности, пребывания в сомнамбулическом состоянии на грани сна и яви достигается не за счет декораций (весь фильм снят на натуре), а за счет размытого, туманного, практически сновидческого изображения, которого Дрейер и его оператор Рудольф Матэ специально добивались благодаря тому, что держали перед объективом камеры полупрозрачную ткань.

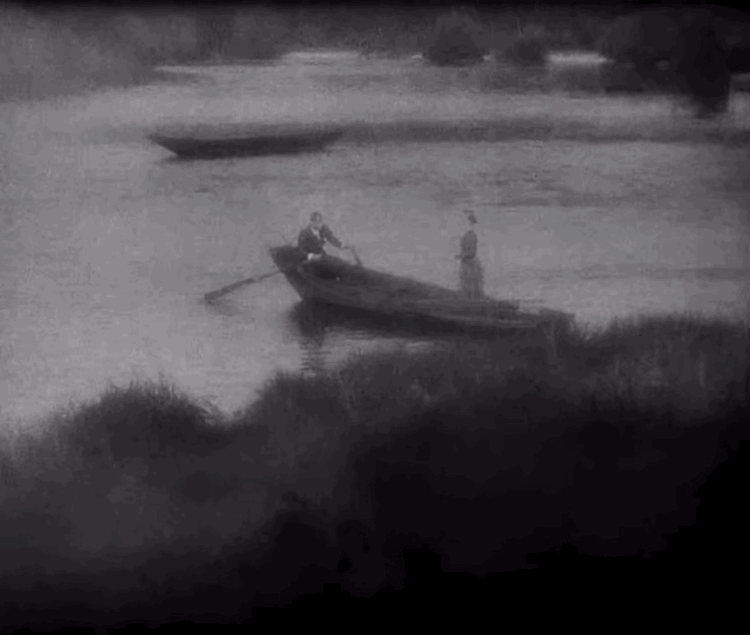
Сцены, в которых особенно заметен прием со съемкой сквозь полупрозрачную ткань «Вампир» (реж. Карл Теодор Дрейер)
«Мы с Дрейером хотели создать ощущение, что камера видит не глазами человека, а глазами призрака. Мы снимали через вуали, использовали испорченные объективы, чтобы изображение дышало, как туман. Студия требовала чёткости, а мы боролись за размытость. Дрейер говорил: „Страх рождается не из того, что ты видишь, а из того, что тебе кажется“. Критики тогда назвали это техническим браком, но теперь я понимаю — мы опередили время» — немецкий кинооператор Рудольф Матэ, из интервью 1950-х.
Свойственные киноэкспрессионизму тени в фильме начинают жить своей жизнью, медленно сводя с ума: мы вместе с Алланом Греем видим то одну лишь тень рабочего без самого владельца за выкапыванием чего-то в саду и при этом выкопанная земля падает не с лопаты, а обратно на нее снизу; то блуждающую тень одноногого мужчины, которая в какой-то момент возвращается к владельцу, пока он ничего не заметил; то целый бал из танцующих теней посреди заброшенного сарая.

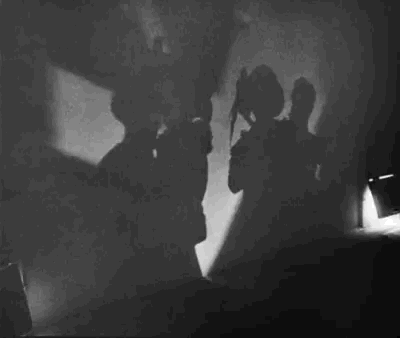
1 — сцена с блуждающей тенью одноного мужчины, 2 — сцена с танцующими тенями «Вампир» (реж. Карл Теодор Дрейер)
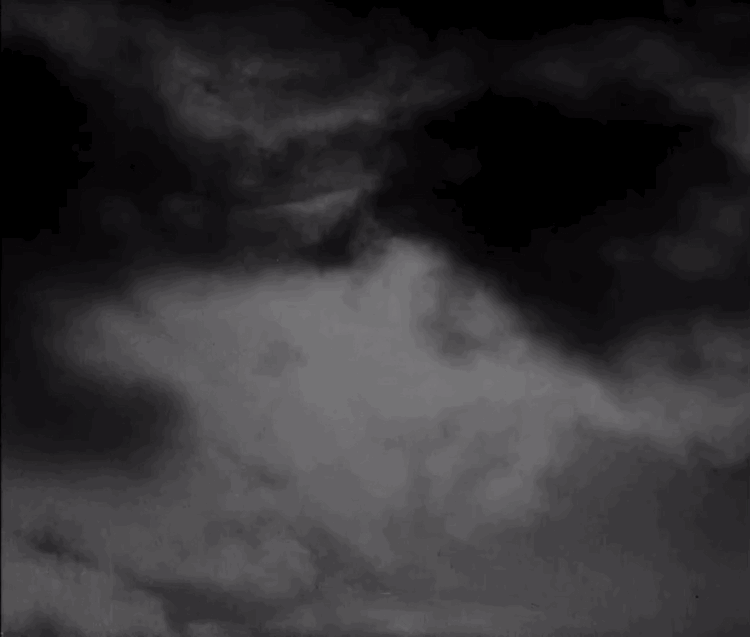

Дрейер часто использует в фильме игры с двойной экспозицией для создания ирреального, мистического эффекта «Вампир» (реж. Карл Теодор Дрейер, 1932)
Одна из самых запоминающихся и новаторских сцен в фильме — это сцена, когда Аллан Грей находит готовящийся к погребению гроб, в котором видит себя. Далее мы уже видим все от лежащего в нем главного героя через маленькое стеклянное окошко: как крышка закрывается, свеча ставится на окошко, а далее перед ним проплывает небо и мы понимаем, что гроб выносят. Дав зрителю возможность примерить на себя положение лежащего в гробу, увидеть мир в последний раз с его точки зрения, Дрейер создает невероятно некомфортное и сильнейшее по своему воздействию ощущение.
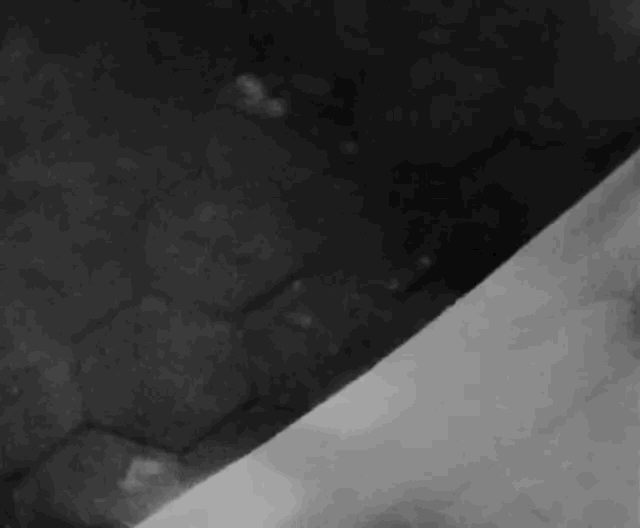

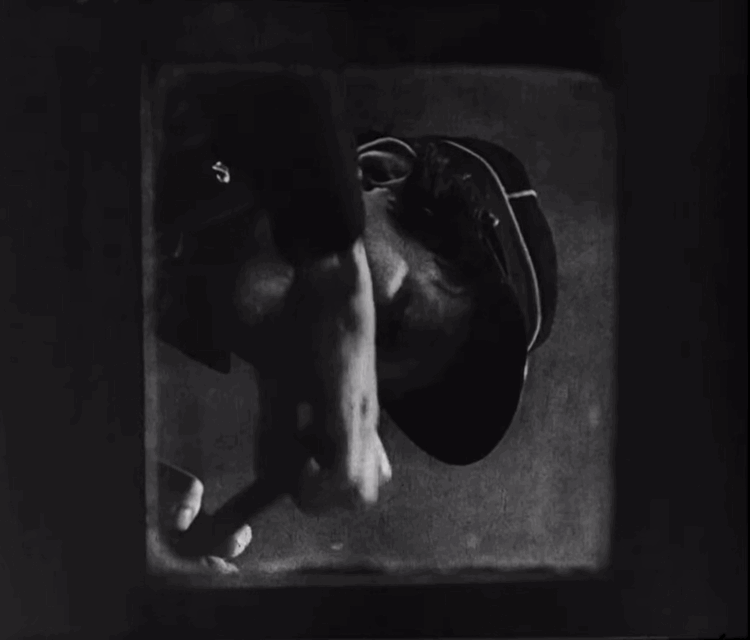

Сцена с гробом, в котором находит себя Аллан Грей, от первого лица «Вампир» (реж. Карл Теодор Дрейер)
Заключение
Европейский хоррор 1920-х годов сформировался как прямой отклик на коллективную травму Первой мировой войны. Сквозь анализ ключевых фильмов эпохи — от кошмара тоталитарной власти в «Кабинете доктора Калигари» до телесной одержимости в «Руках Орлака» прослеживается единая логика: невозможность выразить ужас войны реалистичными средствами породила новый визуальный язык. Экспрессионизм с его искажёнными перспективами и сюрреалистичные образы стали не просто стилем, а способом диагностики общественного сознания.
Эволюция шла от внешних угроз к внутренним демонам: если «Носферату» олицетворял чуму, а «Голем» — слепую силу системы, то «Вампир» Дрейера и «Ведьмы» Кристенсена погрузились в самые глубины травмированной психики. Визуальные открытия этих фильмов — архитектура безумия, графика света и тени, телесный гротеск — создали не просто жанр, а инструмент осмысления исторической катастрофы. Ранний хоррор оказался не бегством от реальности, а её самым пронзительным документом, где монстры стали метафорами непрожитого ужаса целого поколения.
Айснер Л. Демонический экран. — Rosebud Publishing, 2023. — 288 с.
Грабузов И. Ю. Трансформация образа вампира в художественной культуре Европы и Америки // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2012. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-obraza-vampira-v-hudozhestvennoy-kulture-evropy-i-ameriki (дата обращения: 19.11.2025)
Кракауэр З. От Калигари до Гитлера: Психологическая история немецкого кино. — Ad Marginem, 2025. — 440 с.
Макарова Г. В. Актерское искусство Германии: роли — сюжеты — стиль. Век XVII — век XX. — М.: Рос-сийск. гос. гуманит. ун-т, 2000. — 238 с.
Пул У. С. Пустошь. Первая мировая и рождение хоррора. — АСТ, 2024. — 320 с.
Сальникова Е. В. Пространство города и повествования в фильме «Кабинет доктора Калигари» // Наука телевидения. 2020. № 16.2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-goroda-i-povestvovaniya-v-filme-kabinet-doktora-kaligari (дата обращения: 19.11.2025)
Энциклопедия экспрессионизма [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://teatrsemya.ru/lib/teatr/istorija-teatra/ehnciklopedija_ehkspressionizma-teatr.pdf (дата обращения: 19.11.2025)
Kaes A. How war trauma haunted the films of Weimar Germany // Princeton University Press. — 2024. — 327 c.
«Кабинет Доктора Калигари» (1920): https://vkvideo.ru/video-125080648_456239100?t=46m29s
«Носферату, симфония ужаса» (1922): https://vkvideo.ru/video-181216366_456239104?t=39m22s
«Голем, как он пришел в мир» (1920): https://vkvideo.ru/video-52526415_456239834?t=44m10s
«Руки Орлака» (1924): https://vkvideo.ru/video-45909225_456241126?t=47m23s
«Ведьмы» (1922): https://vkvideo.ru/video-181216366_456239192?t=23m2s
«Вампир» (1932): https://vkvideo.ru/video-111429459_456243346?t=33m9s



