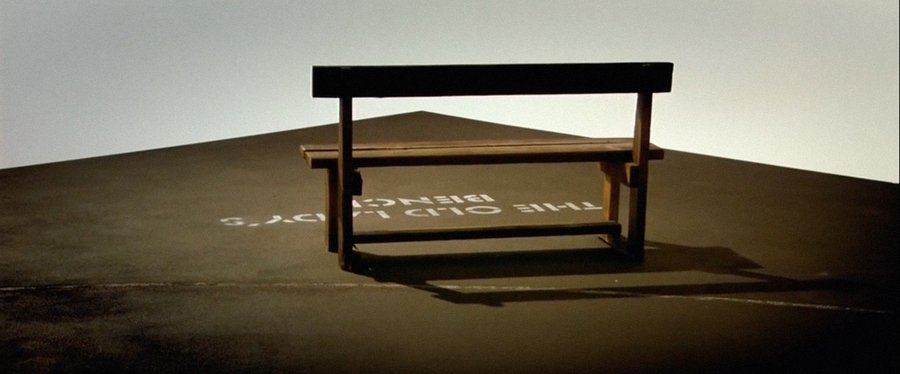Сравнительный анализ сценария и фильма «Догвилль» Ларса фон Триера
Трилогия «США — Страна возможностей» «Догвилль» (2003) Время — 178 минут Режиссер — Ларс фон Триер Сценарист — Ларс фон Триер Оператор — Энтони Дод Мэнтл Монтаж — Молли Марлен Стенсгаард
Рубрикатор
1. Концепция 2. Контекст творчества Ларса фон Триера — Ответ критикам: мизантропия или требование? 3. Сравнительный анализ — Сцена первого «наказания» — Сексуальное насилие над Грейс — Работа актеров в условиях условности — Структурный анализ: архитектоника притчи 4. Киноязык «Догвилля»: визуальные и звуковые решения — Визуальная семиотика — Звуковой ландшафт как драматургический инструмент — Работа камеры и монтажа 5. Философские аспекты — «Догвилль» как иммиграционная притча — Концепция «аррогантности» как центральный философский узел — Религиозные аллюзии и их визуальное воплощение 6. Заключение
Концепция
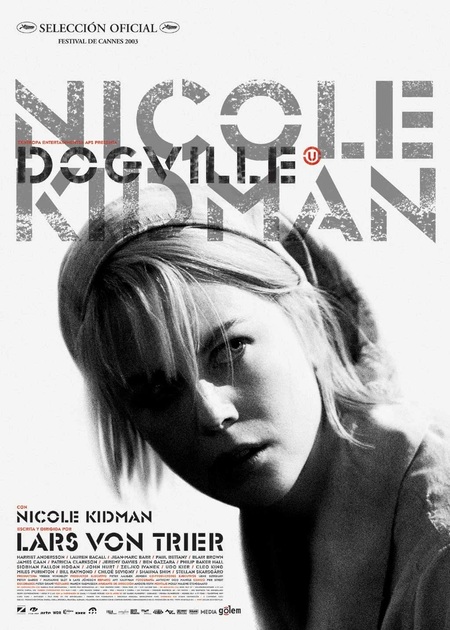
Концепция и выбор темы данного исследования обусловлены уникальным положением «Догвилля» в современном кинематографе как произведения, существующего в двух самостоятельных, но взаимосвязанных ипостасях. С одной стороны, это литературный сценарий обладающий собственной художественной ценностью. С другой — радикальная кинематографическая работа, сознательно нарушающая традиционные представления о киноязыке. Такой дуализм представляет особый интерес для анализа механизмов трансформации текста в визуальный образ.
Актуальность исследования определяется несколькими факторами. Во-первых, в современном киноведении вопросы адаптации литературного источника выходят на первый план, особенно в контексте растущего интереса к трансмедийным нарративам. Во-вторых, фильм фон Триера, созданный в 2003 году, продолжает оставаться предметом острых дискуссий, что свидетельствует о его непреходящей значимости и способности порождать новые интерпретации. Как точно отмечает Антон Долин, «„Догвилль“ фон Триера — это случай, когда режиссер не просто снимает свой сценарий, а ведет с ним напряженный диалог, споря, дополняя и переосмысляя его средствами кинематографа».
В рамках исследования будет проанализирован комплекс вопросов, связанных с переводом литературного текста на язык кино. Основное внимание уделяется сравнительному анализу сценарных решений и их визуального воплощения, исследованию нарративных структур, трансформации философских идей при переходе от слова к образу. Особый интерес представляет анализ того, как минималистичная эстетика фильма служит раскрытию сложных философских концепций.
Отбор материала включает в себя прежде всего текст сценария и сам фильм 2003 года. Дополнительно привлекаются критические статьи и аналитические работы, посвященные творчеству фон Триера, что позволяет контекстуализировать конкретные наблюдения в более широком культурном и философском контексте.
Структура исследования выстроена по принципу движения от общего к частному. После рассмотрения общих вопросов творчества фон Триера и места «Догвилля» в его фильмографии, следует детальный сравнительный анализ ключевых сцен, затем — исследование визуальной семиотики и философских аспектов. Такая структура позволяет последовательно раскрывать различные уровни произведения, демонстрируя их взаимосвязь.
Ключевой вопрос исследования: каким образом режиссерские решения Ларса фон Триера трансформируют литературную основу сценария в сложное философское высказывание, и какие дополнительные смысловые слои возникают при переходе от текста к визуальному образу?
Гипотеза исследования заключается в следующем: фильм «Догвилль» представляет собой не просто экранизацию сценария, a самостоятельное художественное произведение, где визуальные средства становятся полноправным инструментом философского высказывания. Таким образом, в своем исследовании я хочу подтвердить, что минималистичная эстетика, работа с пространством и специфические нарративные приемы способны создать многомерное смысловое поле, выходящее за рамки литературного первоисточника и превратить кинематографическое произведение в универсальную притчу о природе зла, власти и моральной ответственности.
Контекст творчества Ларса фон Триера
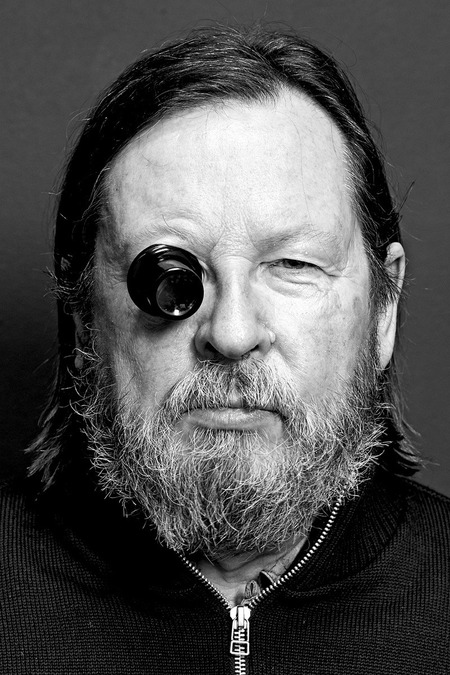
Ларс фон Триер — датский режиссер-провокатор, чье творчество характеризуется постоянным поиском новых форм выражения. «Догвилль» был задуман как первая часть трилогии «США — страна возможностей», направленной на критическое осмысление американского общества и его фундаментальных мифов. Забавно, что фон Триер никогда не посещал США, что делало его критику особенно вызывающей, но его интересовала не страна как таковая, а ее мифология. Сам режиссер отмечал: «A film should be like a rock in the shoe» — высказывание, которое точно характеризует и его собственный фильм, призванный вызывать интеллектуальный и эмоциональный дискомфорт.
Важным контекстом для понимания фильма «Догвилль» служит эволюция взглядов режиссера на манифест Dogme 95. Изначальный «обет целомудрия», который фон Триер и Томас Винтерберг сформулировали в 1995 году, предлагал бороться с голливудской иллюзией путем отказа от декораций, спецэффектов и пышного оформления. Однако в «Догвилле» фон Триер находит парадоксальное и по-своему гениальное решение. Он остается верным духу манифеста, то есть идее разоблачения кинематографических условностей и концентрации на драматургической сути, но делает это через тотальную стилизацию и театральную условность.
Этот подход можно считать творческим развитием идей Dogme 95. Вместо следования букве манифеста, требующей съемок на натуре и естественного освещения, фон Триер создает искусственное пространство с меловыми контурами домов на черном полу, где нет стен, а актеры притворяются, что открывают несуществующие двери. Такой утрированный минимализм служит той же цели, что и исходный «обет целомудрия». Он обнажает условность кинематографического языка, заставляя зрителя сосредоточиться не на правдоподобии обстановки, а на моральной и философской сути происходящего.
Таким образом, «Догвиль» становится своеобразным отрицанием Dogme 95, но отрицанием в диалектическом смысле. Если манифест предлагал отказаться от иллюзии через максимальное сближение с документальной реальностью, то фон Триер использует полную театрализацию для достижения того же эффекта. Его метод оказывается даже более радикальным. Правила Dogme 95 все же оставляли пространство для психологического реализма, а условность «Догвилля» постоянно напоминает зрителю об искусственности происходящего. Фильм превращается не в «окно в реальность», а в философскую модель, где каждый элемент работает на исследование человеческой жестокости и лицемерия.
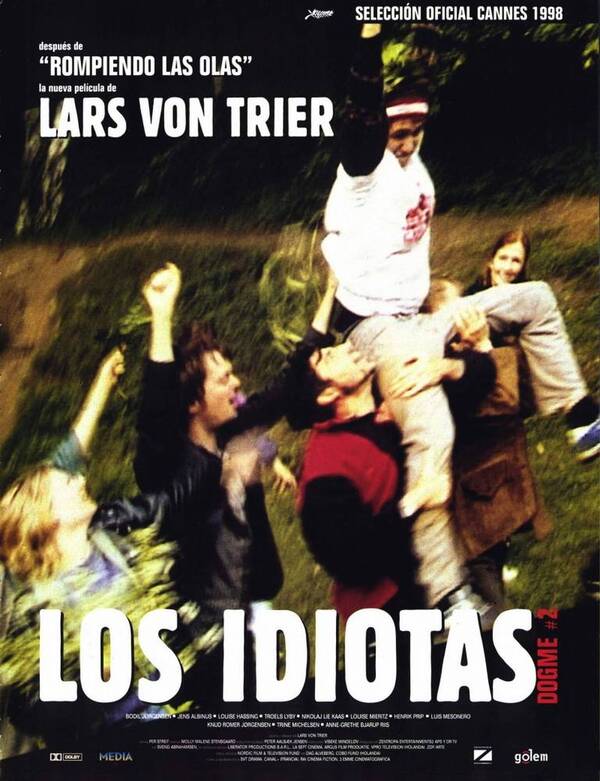

Двумя наиболее известными фильмами, снятыми по догме, являются «Идиоты» (Idioterne, 1998) и «Торжество» (Festen, 1998)
Ответ критикам: мизантропия или требование?
«Догвилль» часто обвиняли в мизантропии и тотальном пессимизме. Однако более глубокая интерпретация позволяет увидеть в фильме не ненависть к человеку, а требование к нему быть лучше. Это не приговор человеческой природе, а безжалостная диагностика социальных механизмов, которые позволяют обычным хорошим людям совершать зло. Фон Триер не утверждает, что все люди от рождения порочны. Он показывает, как страх, алчность и стадный инстинкт способны развратить любое общество, лишенное действенных моральных тормозов и критической саморефлексии. Я считаю, что его фильм это не антиамериканский памфлет, а универсальное предупреждение о хрупкости цивилизации. Самим Триером эта неприязнь к стране, в которой он никогда не был, не опровергается, но корректируется — например, в диалоге с Йоргеном Летом он говорил: «У Америки должно быть много критиков. Но моя критика не особенно правомочна, так как оперирует второсортными, общеизвестными утверждениями и образами. К тому же я никогда не был в Америке. По этим причинам мой критицизм уязвим: он может быть легко отринут. Меня поразил Кафка — его „Америка“ написана человеком, который никогда не был в этой стране. По-моему, это потрясающе. Но мой материал намного шире материала Кафки, ведь почти всё, что происходит в сегодняшнем мире, так или иначе связано с Америкой. Я считаю, что власть нужно постоянно критиковать, даже если на то нет никакого повода. Те, кто обладает силой и властью, должны быть милосердными и справедливыми. И раз уж у Соединенных Штатов есть власть, то любая критика по адресу этого государства окажется полезной, так как будет способствовать тому, чтобы Америка строго посмотрела на себя со стороны. Хотя я ничего не имею против концепции и духа Америки. „…“ И ситуация в США совсем не похожа на датскую социал-демократическую модель интеграции, абсолютно — я уверен — неправильную».
Творческий принцип режиссера, выраженный в словах «My films are about ideals that clash with the world. Every time it’s a man in the lead, they have forgotten about the ideals. And every time it’s a woman in the lead, they take the ideals all the way», находит в «Догвилле» свое полное воплощение через историю Грейс.
Сравнительный анализ ключевых сцен
Сцена первого «наказания»
сцена 20 Пора зеленых листьев. Ночь «Придется снять объявление о пропавшей без вести. Это снова та самая леди. „…“ Ее разыскивают в связи с ограблениями банков на Западном побережье».
Сравнительный анализ сцены первого наказания демонстрирует, как фон Триер трансформирует лаконичный текст сценария в сложную социальную метафору. Если литературный источник ограничивается сухой констатацией: «Том сказал, что полиция ищет Грейс. Чак потребовал, чтобы она работала больше за молчание. Грейс согласилась», — то в фильме этот эпизод становится мощным визуальным исследованием механизмов коллективного насилия. Режиссер детально показывает процесс социальной перестройки: через крупные планы испуганного лица Грейс и удовлетворенные лица жителей, через контраст между ее физической хрупкостью и внезапно обретенной массовостью общины. Важнейшим отличием становится использование звукового ряда — нарастающий гул и металлический скреп будущей цепи создают атмосферу неотвратимости, тогда как в сценарии эти элементы отсутствуют. Именно через эти кинематографические средства фон Триер раскрывает главную мысль: смена объявления служит не просто сюжетным толчком, а социальным разрешением на насилие, обнажая истинную природу коллективной морали, которая оказывается производной от внешних институтов власти, а не внутренних убеждений.


сцена 20 Пора зеленых листьев. Ночь «Грэйс спешит укрыться в темной шахте. За столом повисает молчание. Все ждут, когда приедет машина».
Сексуальное насилие над Грейс
Сцены нет в сценарии В этой сцене становится очевидно, что Грейс «одна» в Догвилле
В данный эпизод хорошо заметна разница между литературным и кинематографическим языком. В сценарии насилие описывается как отдельный драматический эпизод. В фильме же фон Триер использует отсутствие стен для визуализации идеи коллективной ответственности. Когда Чак насилует Грейс, камера показывает общий план, где другие жители спокойно занимаются своими делами. Этот визуальный прием, невозможный в литературной версии, превращает конкретное действие в универсальную метафору моральной слепоты общества.
Сцена 25 Созревают яблоки. День «Грэйс: Что ты хочешь со мной сделать, Чак? Что такого ты собираешься сделать, что заставит меня убежать или закричать? „…“ Чак сдирает с Грэйс одежду.»
Работа актеров в условиях условности
Николь Кидман
Сравнительный анализ позволяет выявить существенное различие в актерской игре между тем, что можно предположить при чтении сценария, и тем, что мы видим на экране. В тексте характеры обозначены схематично, тогда как в фильме актерам удается создать достоверные образы в театральной среде. Николь Кидман, лишенная возможности играть с реальными декорациями, фокусируется на микроскопических изменениях взгляда и интонации, что невозможно передать в литературном тексте. Ее Грейс эволюционирует от наивной открытости к замкнутому страданию и, наконец, к ледяной решимости, при этом ее физическая пластика остается удивительно сдержанной.
Пол Беттани
Пол Беттани в роли Тома демонстрирует настоящее актерское мастерство, создавая сложный и противоречивый образ. Его персонаж постоянно разрывается между возвышенной риторикой самовозвеличивания и приземленной жалкой трусостью. Актер тонко передает эту внутреннюю дисгармонию через неуловимые изменения интонации, красноречивые паузы и выразительные жесты. В его исполнении Том предстает не просто лицемером, а сложной личностью, которая сама становится заложницей собственной лжи и притворства.
Лорен Бэколл
Не менее впечатляет работа Лорен Бэколл, которая создает законченный образ миссис Хэнсон, используя минимальные, но исключительно выразительные средства. Всего несколькими язвительными репликами и характерными взглядами поверх очков актрисе удается передать сущность ханжи и ревностной хранительницы устоев. Ее персонаж становится олицетворением лицемерной морали, где за внешней добропорядочностью скрывается цинизм и равнодушие.
Через свои роли, актёры, дополняя литературный источник, раскрывают ключевую тему фильма, показывая, как общественные нормы и условности могут служить прикрытием для человеческих слабостей и пороков.
Структурный анализ: архитектоника притчи
Принципиальное различие заключается в структурной организации. Литературный сценарий состоит из 48 отдельных сцен, тогда как фильм организован в 9 глав и пролог. Это структурное переосмысление меняет ритм повествования. Многоделённая структура сценария создает эффект детализированной хроники, в то время как кинематографическая версия с ее крупными главами придает истории черты эпической притчи или викторианского романа.
9 глав в фильме
Наиболее значительная трансформация происходит в функции рассказчика. В литературном сценарии повествователь выполняет традиционную описательную роль через текстовые ремарки и пассажи. В фильме же монотонный голос Джона Хёрта становится активным драматургическим элементом. Он создает эффект брехтовского отчуждения, постоянно напоминая зрителю об условности происходящего. Этот голосовой контраст особенно важен в контексте визуального решения фильма, где условность пространства подчеркивается схематичными декорациями и рисунком собаки вместо реального животного.
Таким образом, кинематографическая версия не просто переносит текст на экран, а создает принципиально новое художественное высказывание. Через перекомпоновку структуры и радикальное переосмысление роли рассказчика фильм обретает уникальное эстетическое и философское измерение, превращаясь из литературного сценария в самостоятельное произведение искусства.
Киноязык «Догвиля»: визуальные и звуковые решения
Визуальная семиотика
План города
Наиболее существенное различие между сценарием и фильмом заключается в использовании визуальных и звуковых средств выразительности. Если текстовая версия ограничена словесными описаниями, то кинематографическая обладает целым арсеналом выразительных средств.
Визуальная семиотика фильма строится на принципах минимализма и условности, что создает мощный контраст с психологической достоверностью актерской игры. Пространство с меловыми контурами домов становится не просто декорацией, а активным участником действия, символизируя прозрачность социальных отношений и отсутствие приватности. Этот визуальный прием, невозможный в литературной версии, позволяет фон Триеру создать универсальную модель города. Режиссер отмечал: «More than anything, there are more images in evil. Evil is based far more on the visual, whereas good has no good images at all». Это высказывание помогает понять, почему фон Триер выбирает такую визуальную стратегию для исследования природы зла — он использует минималистичные, почти схематичные образы, чтобы обнажить механизмы социального насилия.
Кадры из фильма
Звуковой ландшафт как драматургический инструмент
Сцена 44 Редкие красные листья. День. Мороз «Грэйс идет в город, волоча за собой колесо, кивая жителям, которых встречает».
Если визуальный ряд «Догвилля» аскетичен, то его звуковая партитура невероятно насыщенна и работает на создание смыслов. Металлический скрежет цепей, прикованной к Грейс, становится самостоятельным звуковым персонажем, чье присутствие нарастает параллельно с усилением ее рабства. Гулкая тишина в сцене после разбивания фигурок Верой оказывается эмоционально невыносимой, кричащей о боли громче любого звука. Музыкальное сопровождение, особенно композиции Бьорк, служит не эмоциональным фоном, а горьким, ироничным комментарием к происходящему, создавая мощный контрапункт между пасторальной мелодичностью и изображенным на экране ужасом.


Кадры из фильма
Работа камеры и монтажа
Сравнение технических аспектов съемки показывает коренное различие между возможностями сценария и фильма. В сценарии не прописываются конкретные ракурсы и техники съемки, тогда как в фильме фон Триер сознательно использует ручную (handheld) камеру и избегает плавного (continuity editing) монтажа. Эти решения создают специфический визуальный язык, который принципиально отличает кинематографическую версию от литературной.
Контраст между дрожащими, дискомфортными планами диалогов и упорядоченными съемками с крана создает сложную визуальную динамику. Эти планы с высоты, где видны все контуры зданий Догвилля, часто соответствуют объяснениям всеведущего рассказчика и создают эффект абсолютного знания.


Кадры из фильма
Философские аспекты: от текста к экрану
«Догвилль» как иммиграционная притча
Сравнение двух версий показывает, как философские идеи, присутствующие в сценарии в скрытой форме, в фильме становятся явными и обретают визуальное воплощение. Иммиграционная аллегория, которая в тексте может читаться как один из возможных подтекстов, в фильме выходит на первый план через систему визуальных образов. Я считаю, что именно кинематографические средства позволяют фон Триеру превратить историю Грейс в универсальную метафору пути беженца.
Сквозь призму философской абстракции в «Догвилле» проступает социально-политическая аллегория. История Грейс — это точная метафора пути беженца или нелегального иммигранта в закрытом сообществе. Она проходит все этапы: от первоначального подозрения и условного испытательного срока, через стадию условного принятия и системной эксплуатации, к демонизации (ложное обвинение в краже), лишению прав и, наконец, полной дегуманизации и обращению в рабство. Фон Триер показывает, как механизмы гостеприимства легко трансформируются в инструменты угнетения, когда общество сталкивается с «другим», чью уязвимость можно безнаказанно использовать.
Концепция «аррогантности» как центральный философский узел
Особенно показательно сравнение трактовки концепции «аррогантности». В сценарии этот философский диалог между Грейс и ее отцом присутствует, но в фильме он приобретает дополнительную драматургическую весомость благодаря актерской игре и визуальному ряду. Камера крупно показывает лица персонажей, подчеркивая эмоциональную напряженность момента, что невозможно передать в литературном тексте.
Сцена 48 Голые ветви деревьев. Ночь «Грэйс: Если я вернусь с тобой и снова стану твоей дочерью, тогда ты дашь мне власть, о которой говорил? Большой Человек (пожимает плечами): Прямо сейчас».
Ключевой термин финального диалога — «аррогантность» (высокомерие) — становится осью, вокруг которой вращается вся моральная проблематика фильма. Фон Триер сталкивает две формы высокомерия: высокомерие прощения (позиция Грейс-стоика) и высокомерие суда (позиция Отца-гангстера). Фильм достигает кульминации в финальном откровении, когда отец Грейс произносит ключевую фразу: «В тебе сидит предубеждение, что никто, никто не может достичь столь высокого уровня нравственности, которого достигла ты. Поэтому ты и оправдываешь других. И очень трудно представить себе большее высокомерие». Я считаю, что эта дискуссия не предполагает карательного правосудия, расплаты «око за око». Речь идёт об ответственности, о том, что наказание за проступок должно быть понесено, а одинаковый стандарт должен применяться ко всем.
Ларс фон Триер не дает однозначного ответа, но показывает трагическую неизбежность: выбрав месть, Грейс сама становится частью системы насилия, от которой изначально бежала.
Сцена, где Грейс приказывает уничтожить город и убить всех жителей, представляет собой мощное утверждение «анти-человечности» — радикального отказа от традиционного гуманизма в кино. Это решение отражает менталитет «сжечь дотла», который может возникнуть, когда основные общественные институты терпят неудачу. В этой сцене звучит еще одна значимая цитата, выражающая философию жестокости: финальное решение Грейс уничтожить Догвиль нельзя сводить к простой мести. Осознав, что ее всепрощение не ведет к исправлению, а лишь поощряет порок, Грейс принимает логику отца, выраженную в словах: «Ты им симпатизируешь… Насильники и убийцы, по-твоему, просто жертвы, а я называю их псами… Если они готовы жрать собственную отрыжку, остановить их можно лишь плетью… Псов можно обучить многим полезным вещам, но при одном условии — если не прощать их, когда природа берёт верх». Через визуальные средства — кадры с высоты птичьего полета, контраст между первоначальной мягкостью и конечной решимостью героини — режиссер создает мощную антипритчу, показывающую, как благодать, явленная в жестокий мир, может не спасти его, но вынести ему окончательный приговор.
Кадры из фильма со сценами насилия
Религиозные аллюзии и их визуальное воплощение
В работе Триера также прослеживаются религиозные аллюзии. «Догвиль» представляет собой сложную философскую и религиозную притчу, где персонажи выступают прежде всего носителями определенных идей и концепций. Главная героиня Грейс, чье имя переводится как «милость» или «благодать», появляется в городе как дар, призванный проверить моральные устои его жителей. Если в библейской традиции благодать понимается как незаслуженная милость Бога, то фон Триер предлагает радикальное переосмысление этой идеи, показывая, что происходит, когда божественный дар встречает отвержение и осквернение.
Центральным становится противостояние двух идеологий: Грейс и ее отца. Если Грейс изначально исповедует принципы, близкие новозаветной морали всепрощения, то ее отец представляет ветхозаветную концепцию неотвратимого наказания.
Фигура Тома Эдисона-младшего демонстрирует разрыв между теорией и практикой. Представляясь философом и моралистом, он разрабатывает концепцию «дара» Грейс как средства проверки нравственности догвильцев. Однако его красивые рассуждения не подкрепляются действиями — в конечном счете именно Том совершает самое страшное предательство. Его персонаж становится иллюстрацией лицемерия и несостоятельности отвлеченной философии.
Кульминацией развития библейской аллюзии становится трансформация Грейс. Пройдя путь жертвенности, она сама вершит правосудие, что представляет собой инверсию новозаветной парадигмы. Визуальное воплощение этой концепции особенно ярко проявляется в финальной сцене: если литературный текст обозначает уничтожение Догвиля как драматический финал, то кинематографическая версия наделяет эту сцену чертами ветхозаветного возмездия, вызывая ассоциации с разрушением Содома и Гоморры.
Решение Грейс уничтожить Догвиль нельзя сводить к простой мести. Осознав, что ее всепрощение не ведет к исправлению, а лишь поощряет порок, Грейс принимает логику отца. Этот поворот завершает ее трансформацию от новозаветной жертвы к ветхозаветному судье.
Сцена 35 Зеленые листья, яблок уже нет. День «Бен: Я должен получить причитающуюся плату. „…“ Грэйс до боли зажмуривает глаза, когда Бен ложится на нее».
«Формулируя необходимость возмездия в рамках закона и человеческой цивилизованности, Библия часто указывает на эту неудобную истину, которая может вырваться наружу, и обязательно вырвется, когда эти ограничения исчезнут».
(цитата из книги «Кино Ларса фон Триера» Ребекка Вер Стратен-МакСпаррана)
Символическое превращение пса Моисея из мелового контура в живую собаку в финале фильма представляет собой не только многозначную метафору, но и ключевое отличие от литературного сценария, раскрывающее главный философский замысел фон Триера. Если в текстовом первоисточнике условные очертания собаки, олицетворявшие формальный закон Догвиля, бесследно исчезают вместе с уничтожением города, то в фильме происходит решительная трансформация: Моисей материализуется, превращаясь в живую собаку, которая одна переживает «апокалипсис». Этот режиссерский ход кардинально меняет смысл финала. Если на протяжении всего действия условный контур символизировал ограниченность морального закона, то его материализация знаменует не крах системы, а ее парадоксальное выживание. Лай живой собаки звучит уже не как предупреждение, а как горькая ирония — свидетельство того, что сама идея закона продолжает существовать, даже когда она продемонстрировала свое полное бессилие перед лицом человеческой жестокости. Особенно значимо, что именно Моисей — библейский законодатель — становится свидетелем разрушения города, что можно интерпретировать как крах ветхозаветной концепции справедливости. Фон Триер показывает тщетность попыток упорядочить человеческую природу через внешние регуляторы, но при этом оставляет тревожный вопрос: что остается от идеи закона, когда общество, породившее его, оказывается моральным банкротом?


Кадры из фильма Моисей
Заключение
Фильм «Догвилль» не является простой иллюстрацией сценария, он представляет собой самостоятельное философское высказывание. Режиссер использует специфические средства кинематографа для углубления и переосмысления текстовой основы.
Визуальный ряд не просто дополняет текст, он вступает с ним в сложный диалог, создавая новые смысловые слои. Сравнение двух версий показывает, что кино обладает собственным языком для выражения сложных философских концепций, отличным от языка литературы. Форма и содержание оказываются неразделимы, каждое режиссерское решение работает на раскрытие основной темы.
Я считаю, что «Догвилль» становится примером того, как кинематограф может не только адаптировать литературный источник, но и вести с ним равноправный диалог. Создается новое художественное целое, значимое как в эстетическом, так и в философском отношении. Фильм обретает самостоятельную жизнь, продолжая существовать и в текстовой, и в визуальной форме, каждая из которых по-своему раскрывает трагедию человеческой природы, заключенную в условном пространстве меловых линий.
Проведенное исследование подтверждает, что сравнение сценария и фильма открывает уникальные возможности для понимания как конкретного произведения, так и общих закономерностей киноязыка. Трансформация текста в визуальный образ предстает не как технический процесс, а как сложный творческий акт, в котором режиссерское видение преобразует литературную основу в многогранное художественное высказывание.
«Кино Ларса фон Триера. Пророческий голос» Ребекка Вер Стратен-МакСпарран (печатное издание)
«Ларс фон Триер. Контрольные работы» Антон Долин (яндекс книги)