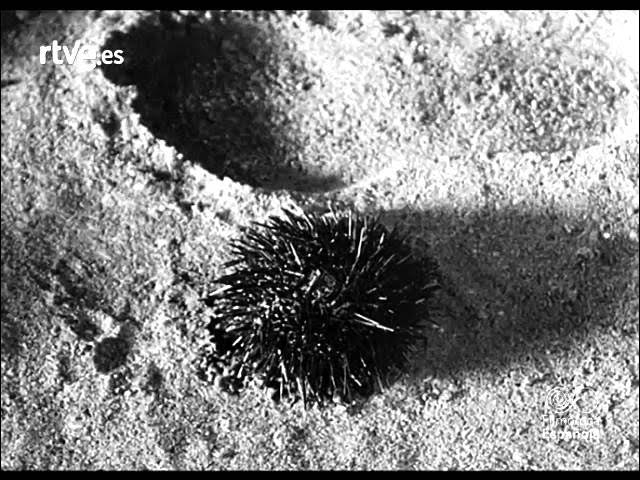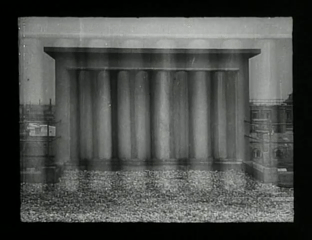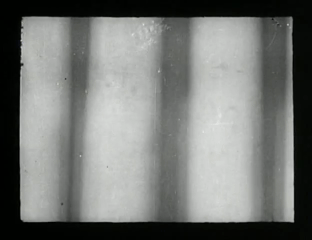Сюрреализм в кино 1920-х: как монтаж ломает нарратив и создает образ

Рене Клер «Антракт», 1924
Концепция
Сюрреалистическое кино 1920-х возникло на пересечении художественного эксперимента и кризиса рациональных форм, определивших культуру послевоенной Европы. В то время как традиционное кино стремилось к непрерывности повествования, психологической мотивации и прозрачной логике, сюрреалисты видели в кинематографе возможность освободить образ от диктата нарратива. Их работа с монтажом и визуальными переходами становится способом вскрытия скрытых ассоциаций, вытеснённых желаний и иррациональных импульсов, которые невозможно выразить средствами литературы или театра.


Жан Кокто «Кровь поэта», 1930 / Луис Бунюэль, Сальвадор Дали «Андалузский пёс», 1929
«Кино вскружило мне голову. В 1923 году некоторые из моих другей работали в кино, и я был так захвачен кинематографом, что чуть было не бросил живопись». Фернан Леже
Главным механизмом столкновения образов для сюрреалистов стал монтаж. Именно в этом столкновении рождаются новые связи, не опирающиеся на причинность, но работающие через шок, внезапность и ассоциативную логику. В фильмах 1920-х годов — от «Антракта» Рене Клера до «Андалузского пса» Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали — монтажные разрывы заменяют собой сюжетные звенья, превращая кинематограф в поле, где сознательное и бессознательное вступают в конфликт. Визуальные ритмы, несоответствие пространств, резкие смены планов, графические совпадения или их полное отсутствие — всё это делает фильм структурой, близкой к сновидению, где переход между образами существует сам по себе, без объяснений.
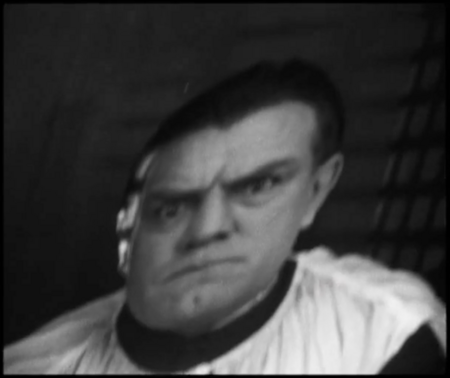

Жан Кокто «Кровь поэта», 1930 / Жермен Дюлак «Раковина и священник», 1928
Сюрреалистичесты через кино выражали свой жест освобождения от логики, морали, привычного восприятия образа как носителя значения. Фильмы Жермен Дюлак, Фернана Леже, Ман Рэя и Жана Кокто демонстрируют разные способы преобразования монтажа в двигатель ассоциаций: у одних доминирует ритмичность и механическое повторение, у других — символические переходы между телом и объектом, у третьих — растворение пространства через отражения и множественные экспозиции. Приём шока становится не столько провокацией, сколько способом разрушить зрительское ожидание линейности, открыть визуальному образу возможность быть автономной, самостоятельной единицей опыта.
Опираясь в том числе на идеи Хэла Фостера о «компульсивной красоте», данное исследование рассматривает сюрреалистический монтаж как способ работы с травмой, желанием и автоматизмом. Фостер предлагает смотреть на сюрреализм не как на поэзию сновидения, а как на визуальный режим, где повтор, разрыв и механизация образа оказываются глубинными структурами восприятия. Это позволяет увидеть фильмы 1920-х не только как художественные эксперименты, но и как попытку создать визуальный язык бессознательного, основанный на автоматизме и ассоциации.
Цель моего исследования — выявить, как именно монтажные приёмы формируют нелинейный, алогичный язык сюрреалистического кино 1920-х и каким образом на стыке шока, повторения и визуального ритма возникает особый опыт восприятия. Анализируя фильмы Бунюэля, Дюлак, Клера, Леже, Кокто и других, исследование объединяет их в тематические и формальные группы, чтобы показать, как сюрреалистическое кино создаёт свой язык через работу образов, в которой монтаж становится механизмом ассоциаций.
Рубрикатор
1. Шок и столкновение образов 2. Ассоциации и метафорические переходы 3. Двойная экспозиция 4. Ритм, метр и повтор 5. Заключение
Шок и столкновение образов
Первый раздел посвящен частому монтажному приёму, при котором кадры резко и на первый взгляд бессвязно стыкуются друг с другом. Целью его использования является попытка вызвать у зрителя резкое эмоциональное потрясение, и с помощью этих внезапных столкновений образов разрушить привычные причинно-следственные связи, заставив зрителя чувствовать шок и дезориентацию.
«Цепь ассоциаций зрителя этих [движущихся] образов тут же прерывается их изменением. На этом основывается шоковое воздействие кино, которое, как и всякое шоковое воздействие, требует для преодоления еще более высокой степени присутствия духа». [1]
Луис Бунюэль «Золотой век», 1930
Сюрреалисты сознательно использовали этот приём, чтобы взбудоражить восприятие и выйти за рамки логического повествования и его рационального понимания. Из подобных резких монтажных разрывов рождаются состояния свободной ассоциации, похожие на сны. Автоматистические образы, пародии и символы, недоступные привычному осознанию увиденного. Рассмотрим отдельные эпизоды из ключевых фильмов, иллюстрирующие эту технику.
В 1924 году Рене Клер снимает фильм для Антракта дадаистического балета «Представление отменяется». Один из самых известных комических шоковых моментов — это превращение балерины в бородатую даму
Рене Клер «Антракт», 1924
Зрителю показывают крупный план женских ног и объёмной юбки (съемкой снизу), будто подготавливая его увидеть элегантный танец. Но камера поднимается выше, и внезапно выясняется, что у танцовщицы лицо мужчины в очках с глубокой густой бородой. Резко нарушаются ожидания, создаётся тот самый классический монтажный шок: образ стройной женщины мгновенно сталкивается с гротескным образом мужчины. Безумный юмор и дезориентация и намек на «размывание пола» соединяются в этом приёме, как в дадаистских провокациях.
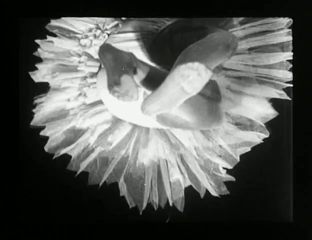

Рене Клер «Антракт», 1924
В фильме много других неожиданных монтажных столкновений. В начале композитор Эрик Сати (композитор, написавший музыку к фильму) и художник Франсис Пикабиа (автор идеи балета Relâche, в антракте которого показывали фильм) заряжают пушку и стреляют ею прямо в камеру, имитируя выстрел в зрителей что также неожиданно прерывает привычное восприятие.
Рене Клер «Антракт», 1924
В фильме неожиданно высмеиваются похороны. Траурная процессия следует за катафалком, который везет не лошадь, а верблюд. Это абсурдное зрелище подрывает всю торжественность момента.
Рене Клер «Антракт», 1924
Культовый пример монтажа-шока дала короткометражка «Андалузский пёс». Первый эпизод самый знаменитый: после краткого перехода от облака на луне к дневному свету перед нами застыл безэмоциональный портрет женщины, и вдруг мужчина проводит бритвой прямо по её глазу. След лезвия будто остался на небе облаком, такое ощущение возникает также за счет движения в одну сторону облаков и лезвия. Эта склейка между пейзажем и актом насилия производит мощнейший шок.
Иногда реплики героев готовят нас к тому, что будет происходить, однако мы не ожидаем, что всё произойдет так внезапно. И предмет теряет свои изначальные свойства. Как это случилось в «Крови поэта». Ожившая статуя говорит герою пройти через зеркало и прогуляться там. Тем не менее, внезапно в кадре появляется стул и зеркало превращается в воду, эффект неожиданности подкрепляет громкий звук в тот момент, когда герой «проходит сквозь зеркало».
Жан Кокто «Кровь поэта», 1930


Жан Кокто «Кровь поэта», 1930
Свое изначальное свойство меняет заснеженная улица, превращаясь в театральный зал.
Во всех этих фильмах монтаж-шок производится за счёт резкого столкновения не имеющих логической связи кадров, создавая удивление и дезориентацию зрителя. Приём разрушает привычный нарратив и заменяет его потоковыми метафорами, погружает в сюжет сна или бессознательных фантазий. Эффект монтажа-шока (прежде всего шок и разрыв когнитивных связей) заставляет зрителя не пассивно смотреть, а активно толковать и чувствовать. Одновременно образы обретают символические функции, например эротика, насилие, религия, детское, мифическое, или приобретают характер автоматизма, как выпадение строчек подсознания. Таким образом, такой монтаж в сюрреализме 1920-х ведёт к созданию иррационального, одиночного пространства кино, где зритель не может просто следовать за фабулой, потому что его сознание взрывается шоком чувствительности, и он вынужден находиться в состоянии постоянного удивления и внутреннего поиска смысла.
Ассоциации и метафорические переходы


«Падение дома Ашеров» Жан Эпштейн, 1928
Сюрреалистический монтаж в основном связывает кадры не сюжетными линиями, а образами и метафорами. Объекты монтируются по внешнему подобию или схожему настроению.
Так, Фернан Леже в быстром, ритмическом монтаже соединяет почти неподвижные объекты, поражая ощущение движения за счет контраста.
Фернан Леже, Дадли Мерфи «Механический балет», 1924
Форма боксерских перчаток в фильме «Антракт» перекликается с формой фонарей в темноте, соединение этих кадров несет больше ассоциативный смысл, чем важный элемент сюжета. Также, этот прием можно трактовать как иммитацию спарринга — боксерские перчатки и городское пространство, огни.
Рене Клер «Антракт», 1924
В «Падении дома Ашеров» после крупного плана пейзажей внезапно следуют заторможенные планы маятника и механизмов часов. Такое безмолвное чередование противоположных темпов и углов зрения нарушает обычные ориентиры. Зрительно пространство выглядит искажённо: по ходу фильма мы видим изображения сталкивающихся штор, обескураживающих крупных планов и обратных съёмок.
Жан Эпштейн «Падение дома Ашеров», 1928
Сцены «Андалузского пса» следуют зацепкам бессознательного. Без сюжета показываются рука с муравьями и визуальное сопоставление её с последующими двумя кадрами, трупы ослов на рояле и т. д. Такие быстрые разрывы и контрасты усиливают чувство сонной иррациональности, а не рациональной причинности.
Луис Бунюэль, Сальвадор Дали «Андалузский пёс», 1929
Двойная экспозиция
В 1933 году Сергей Эйзенштейн пишет одну из множеств статей, которая называется ошибка Георга Мелье (имеется ввиду Жорж Мельес). Эйзенштейн обращает внимание на один сюжет, полу-легенду о том, как Мельес впервые пришел к двойной экспозиции (две пленки накладываются друг на друга). Впоследствии, этот прием активно используют все режиссеры первой половины 20-го века, в том числе сюрреалисты.


Жермен Дюлак «Раковина и священник», 1928
Эйзенштейн утверждает, что это непреднамеренное несовпадение контуров объекта в последовательных кадрах привело к открытию принципа монтажа и созданию кинематографической иллюзии. Эстетически это органично вписывается в сюрреалистический дискурс: реальность обогащается поэтическими символами, ломается привычный ракурс.
В дадаистском «Антракте» Рене Клера в серии комических эпизодов монтажеры умышленно используют двойную экспозицию (наряду с обратной съемкой, стоп-кадром и другими эффектами) для создания калейдоскопа абсурдных образов. Двойная экспозиция в «Антракте» играет роль в первую очередь игровой иррациональности. Наложение силуэта оригами кораблика на перевернутые кадры крыш города, будто он несется по ним, как по волнам, вызывает ассоциации с ночными кошмарами.
Рене Клер «Антракт», 1924
Там же мы видим, как на шахматную доску льется вода, а за счет двойной экспозиции прослеживается соотношение автором шахматного поля и города. Так как нам показано наложение той же самой льющейся воды на городское движение следующим кадром и наложение этих двух картинок друг на друга без воды. Можно соотнести эти два изображения, как два отдельных мира. Машины на дороге так же оживлены, как и передвижение шахматных фигур в игре.

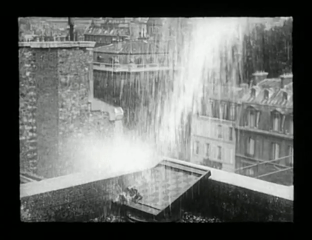
Рене Клер «Антракт», 1924
Также, у этого приёма есть полностью практическая роль. Здесь нам таким образом показывают взгляд героя, что стреляет. Мы будто смотрим его глазом в прицел ружья.
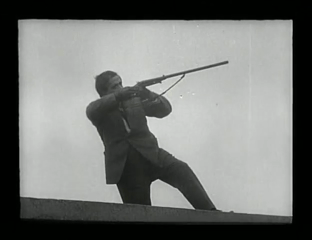

Рене Клер «Антракт», 1924
В ключевой сцене фильма рот, нарисованный художником на ладони, будто отделяется от тела и буквально прилипает сначала к его руке, а затем к лицу статуи. Сцену можно описать как поток фантазийного сознания поэта, где реальность плавно превращается в сон, а тело размывается в предмете.


Жан Кокто «Кровь поэта», 1930
Зритель видит метафорическое смешение символов (рот поэта как символ речи и внутреннего голоса) в манере сновидений. Кокто сам утверждал, что не ставил целью буквальную демонстрацию сновидений, но его образы воспринимаются именно как воплощение свободных ассоциаций подсознания.
Луис Бунюэль «Золотой век», 1930
Все эти примеры показывают, как в киноавангарде приём двойной экспозиции стал одним из способов «поэтики бессознательного»: изображения накладываются ассоциативно и нелинейно, словно перенося зрителя в мир грез и символических метафор.
Ритм, метр и повтор
В «Антракте» монтаж демонстрирует принцип резонансного повтора: кадры разбиваются на серии почти одинаковых изображений с незначительными вариациями. Так, например, камера медленно едет вдоль ряда антикварных колонн, затем склейкой изображение обрывается и возобновляется снова по тем же колоннам в обратном направлении. До этого колонны показаны по диагонали с двух направлений. Они будто танцуют и прыгают. Этот приём движение — остановка — обратное движение, и постоянная смена планов и сторон символизирует внутренние колебания и сомнения героя.
Рене Клер «Антракт», 1924
Монтаж в «Антракте» буквально повторяет композиционные мотивы, то есть сцена за сценой повторяются сходные формы — как будто кадры заново отыгрывают один и тот же цикл. Параллельно музыкальные темы также основаны на бесконечных минималистичных повторах, создавая эффект метрической синхронизации звукового и визуального. Вместе эти повторы порождают гипнотическую, немного циркулярную динамику — зритель погружается в состояние отрешённости, где действие кажется логически подвешенным.
Такой же эффект получается в «Механическом балете». Картинка уже работает как некий паттерн.
Фернан Леже, Дадли Мерфи «Механический балет», 1924
Жермен Дюлак была последовательницей Луи Делюка, снимала по его сценарию. Её фильмы были основаны как раз на ритме, который сменялся соответственно с причудливыми ассоциациями.
В фильме «Раковина и священник» Дюлак делает акцент на повторе и круговом движении. Во фрагментах танцев и монотонных ритуалах. Так, в балу распространяется сцена, где многочисленные пары кружатся в непрерывном вальсе: мужчины и женщины вращаются в танце сначала медленно, а потом ускоряясь, с головокружительным темпом. Монтаж подчёркивает этот ритм — нарезка выстраивает кадры танцующих пар в плавную серию вращающихся, гипнотизирующих образов, создавая у зрителя ощущение медитативного, почти сонного повторения.


Жермен Дюлак «Раковина и священник», 1928
В контраст этому показан сам священник. Он бессмысленно наполняет колбы кровью из большой ракушки и бросает их на пол. Этот поступок повторяется несколько раз в одном эпизоде, каждый раз кадр за кадром. Его действия очень механические, выглядит, как неудержимый ритм фрустрации.
Жермен Дюлак «Раковина и священник», 1928
Монтаж сцены тестовых трубок и танцевальных кругов рождает ироничную дистанцию. Энергичное, почти праздничное кружение свободных пар противопоставляется прерывистому, зацикленному движению героя. Можно увидеть контраст между эйфорией любви, где время словно останавливается в ритмичном танце, и безысходностью желания священника. Однако, с другой стороны, танец также может выглядеть механическим, за счет своих нескончаемых повторов и почти одинаковых пар.
Жан Эпштейн «Падение дома Ашеров», 1928
В «Падении дома Ашеров» изображения природных мотивов повторяются на протяжении всей кинокартины.
Это дает вывод о том, что образности и эмоциональному влиянию на зрителя придаётся большее значение, чем определению логического нарратива. Движения героев/объектов показаны циклично и зачастую без видимого мотива. Формы кадра используются для создания визуального ритма. Переходы между схожими геометрическими композициями создают пластическую рифму
Заключение
В сюрреалистическом кино 1920-х монтаж перестаёт быть лишь средством связывания событий и превращается в главный генератор образа. Через приёмы шока, ассоциативные склейки, метрический ритм и двойную экспозицию режиссёры преобразуют кинематографический кадр в поле наложенных значений. Это и место столкновения желаний, страхов и автоматических ассоциаций. В результате фильм перестаёт рассказывать в привычном смысле и начинает показывать внутренние структуры сознания: сновидные метаморфозы, шок-коллажи, механические рифмы и фантасмагорические наложения служат разными модусами одной эстетической программы — визуализации бессознательного.
В. Беньямин Произведение искусства в эпоху его технической производимости. — М. : Медиум, 1996. — 239 с.
Х. Фостер Компульсивная красота. — М. : Новое литературное обозрение, 2022. — (Серия «Очерки визуальности»).
Забелина Е. В. Симультанеизм как прорыв визуальных образов во временное измерение // Культура и искусство. — 2012. — № 4. — С. 75–83.
Киноавангард // Арт-энциклопедия ARTANDYOU.RU. — URL: https://artandyou.ru/articles/kino-avangard/ (дата обращения: 18.11.2025).
Cocteau Dreams, In Nitrate // Getty Iris Blog. — URL: https://blogs.getty.edu/iris/cocteau-dreams-in-nitrate/ (дата обращения: 18.11.2025).
Surrealist Film // The Art Story. — URL: https://www.theartstory.org/movement/surrealist-film (дата обращения: 19.11.2025).
Entr’acte // IMDb URL: https://www.imdb.com/title/tt0014872/ (дата обращения: 19.11.2025).
https://vkvideo.ru/video-197265731_456239555 (дата обращения 15.11.2025–19.11.2025)
https://vkvideo.ru/video-52526415_456244270 (дата обращения 15.11.2025–19.11.2025)
https://vkvideo.ru/video90683319_168346968 (дата обращения 15.11.2025–19.11.2025)
https://vkvideo.ru/video-234724_163342390 (дата обращения 15.11.2025–19.11.2025)
https://vkvideo.ru/video-38521702_456239017 (дата обращения 15.11.2025–19.11.2025)
https://vkvideo.ru/video-408316_456239583 (дата обращения 15.11.2025–19.11.2025)
https://vkvideo.ru/video-77573117_171069651 (дата обращения 15.11.2025–19.11.2025)