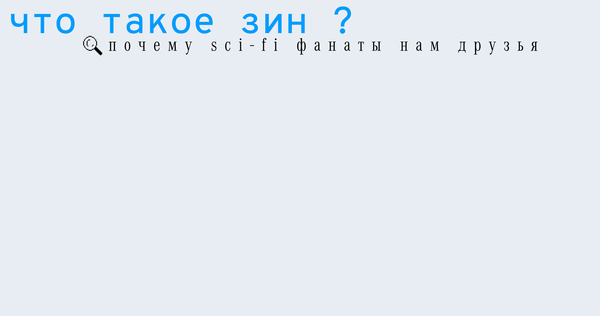Отец Байкал
Легенда

Отец Байкал
Легенда об Отце-Байкале и его дочерях-реках
В стародавние времена, когда мир был молод и горы росли на глазах, поселился меж каменных хребтов великан Байкал. Не как человек, а как дух воды, мудрый и суровый. Лежал он в чаше, выточенной древними льдами, и был так глубок, что до самого дна его не доставало ни солнце, ни взгляд орлиный. Воды его были чисты, как первая совесть, и холодны, как вечная правда.
Жил Байкал в могучей тишине, и лишь ветра да облака были его первыми собеседниками. Но затосковала могучая душа от одиночества. Захотелось ему, чтобы жизнь вокруг кипела, чтобы был смысл в его безмерной силе. И решил он создать себе детей. Не из плоти, а из сути своей — из хрустальной воды и силы течения. Взял он лучи полуденного солнца, дрожь утреннего тумана и звон ночных льдин, смешал в своей бездонной чаше и выдохнул на берега. Там, где пали его тёплые капли, забили из-под земли ключи. Там, где коснулось дыхание, потекли ручьи. А на том месте, куда упала слеза смирения великана, родилась река, прекрасная и сильная, — Ангара. Самая любимая. Не пожелал он отпускать её далеко и держал при себе в каменных берегах, как зеницу ока.
Но другим дочерям сказал: «Ступайте! Негоже силе моей спать в каменной колыбели. Бегите, доченьки, на все четыре стороны. Несите воду жаждущей земле, ведите зверя к водопою, кружите лодки рыбаков. Будете вы голосом моим в дальних краях, памятью о моём нраве».
И разбежались три сотни дочерей по тайге, по степям, по ущельям. Одни — стремительные и громкие, как Сарма-ветер. Другие — неторопливые и задумчивые, полные тайных омутов. Каждая несла в своих струях частицу отцовского характера: где-то — его спокойную мощь, где-то — его внезапную ярость в бурунах и порогах.
Была среди них своенравная Баргузин. Родилась она в высоких горах и сбежала с них, как дикая коза, пенясь и прыгая по камням. Любила она шуметь и буянить, но, влившись в отцовскую гладь, сразу утихала, становясь почтительной и тихой. А была речка Тутура, малая да удалая. Неширокая, но хитрая: знала все подземные ходы в скалах и могла пропасть в одном месте, чтобы вынырнуть с чистым смехом в другом, обманув и путника, и зверя.
А сам Байкал остался стеречь их истоки. Смотрит он в небо, читает по облакам, куда какая дочь забрела. И шлёт им навстречу облака-гонцов: «Напоите дочек моих, чтобы не иссякли». Зимой укроет их истоки крепким сном-льдом, летом — напоит дождями. А если какая дочь задерживается или мелеет, пошлёт он к ней своего верного слугу — ветер Култук. Тот найдёт её, обнимет прохладными струями и нашепчет: «Отец зовёт, опомнись», — и река вновь набирает силу.
Люди, пришедшие на его берега, скоро поняли: Байкал — не просто вода. Он — отец. Отец, чьи дети дают жизнь земле на тысячи вёрст вокруг. Не взять у него нельзя — засохнешь. Но взять слишком много — прогневишь. Он щедр, но справедлив, и нрав его переменчив, как погода над водой. Стали они жить по его законам. Рыбаки, закидывая сети, сначала просили у него позволения, а не просто брали. И всегда самую первую, самую лучшую рыбу отпускали обратно в воду — дар отцу за его щедрость.
Говорили: «Байкал всё видит. Он помнит, кто пришёл к нему с чистым сердцем, а кто — лишь с корыстью».
И был у Байкала ещё один, самый тайный дар — его спящее сердце. Лежит оно на самом дне, в самой глубокой впадине, не камень и не жемчужина, а сгусток немеркнущего синего света. Бьётся оно раз в сто лет, и тогда по всему озеру идёт тихая, низкая дрожь. В эту ночь вода светится, рыбы поднимаются к поверхности и замирают, а дочери-реки несут в мир особенно живительную и мягкую воду. Тот, кто испил её в такую ночь, обретал, говорят, не здоровье и не долголетие, а ясность ума. Понимал язык зверей и шёпот деревьев, чувствовал боль земли и радость рек. Но таких людей были единицы, и хранили они свой дар в молчании, ибо знали: великие тайны требуют великого смирения.
Говорят, и теперь, если прийти к берегу в полной тишине и прислушаться, можно расслышать его разговор с дочерьми. Лёгкий плеск у камня — это Ангара что-то шепчет отцу на ухо. Шум дождя вдали — это он окликает Снежную или Турку.
А вой ветра в Баргузинском ущелье — это его могучий зов, собирающий всех дочерей обратно под свою ледяную опеку. Так и живут они в вечном круговороте: могучий старец-отец и триста дочерей-рек. Он даёт им силу и начало, а они несут его дар, его суть и его закон всему живому. Пока течёт хоть одна из его дочерей — жив Байкал. Пока жив Байкал — есть у этого края и суровый страж, и щедрый кормилец, и вечная загадка в глубине вод, тёмных, как взгляд самого времени.
И если человек помнит об этом, идёт к воде не как хозяин, а как гость в доме великого рода, то и озеро-отец поделится с ним не просто рыбой, а частицей своей древней, непоколебимой силы. А если забудет — ветер завоет иначе, волны станут круче, и в глубине мелькнёт холодная вспышка того самого спящего сердца, напоминая о вечном порядке вещей.
Очерк
О Байкале трудно говорить в прошедшем времени. Вечно настоящее, вечно длящееся «здесь и сейчас». Он не укладывается в фотографию, не помещается в границы взгляда. Ты не можешь прийти к нему «заодно», Байкал требует полной остановки. И ты останавливаешься, даже если обратные билеты уже были куплены.
Мы решили не снимать дом, а встать с лагерем на безлюдном берегу Чивыркуйского залива, там, где тайга подступает к самой воде колючей, пахнущей смолой и хвоей. Это был другой уровень разговора с озером, попытка пожить под одним с ним небом.
Днём Байкал был терпим. Вода в заливе прогревалась до приемлемой температуры, и мы купались, смывая с себя пыль дорог и городскую спешку. Поверхность была гладкой, как полированный нефрит, и прозрачной до самого дна, где лежали валуны, поросшие изумрудным мхом. Казалось, вот она, летняя, добрая, почти домашняя версия исполина.
Но настоящее начиналось с закатом. Когда солнце проваливалось за хребты, уходило последнее тепло, и с воды поднимался холодок — чистый, резкий, древний. Мы сидели у костра, но его треск и жар казались бутафорскими, маленькими перед лицом наступающей ночи. А потом все погасало и наступала тишина.
И тогда открывалось Небо.
Не то небо, что видно в городе — блёклое, засвеченное, с парой десятков звёзд. Над Байкалом открывалась космическая бездна. Млечный Путь был так низко, что казалось, его можно зацепить рукой. Звёзды были не точками, а скоплениями, туманностями. Они отражались в абсолютно чёрной, недвижимой воде озера, и граница между реальным и отражённым стиралась полностью. Ты сидел в самой середине вселенной, зажатый между двумя безднами — звёздной и водной. И обе были бездонны. И обе молчали.
Тишина ночного Байкала — это отдельное вещество. В ней нет ни шелеста, ни гула. Есть только звенящая, почти болезненная пустота, которую нарушает лишь редкий всплеск рыбы — звук одинокий и гулкий, как камень, брошенный в колодец времени. В такую ночь понимаешь, что значит «бескрайнее». Это не метафора. Это физическое ощущение собственной ничтожной, пылинковой сущности в чёрном, звёздном вакууме. И это не унизительно. Это освобождающе. Все твои мелкие тревоги, планы, амбиции — они просто испаряются в этом холодном величии. Остаётся только смирение и жгучий восторг от того, что тебе позволили это увидеть.
Под утро, когда восток начинал сереть, на воду ложился туман. Он стелился низко, плотно, превращая озеро в матовое стекло, за которым угадывалось движение. А потом вставало солнце. И происходило чудо преображения. Бескрайний космический холод за несколько минут растворялся в золоте. Водная гладь, ещё минуту назад бывшая чёрной дырой, загоралась изнутри, будто лёд, под которым горит гигантская лампа. Ты снова мог дышать полной грудью. Но память о ночи — о том двойном, земно-небесном величии — оставалась внутри, как зацепка на душе. И тогда приходило окончательное понимание. Байкал днём, с его прозрачной водой и мягким светом, — это лишь одна его грань, обращённая к человеку. Его летнее, дневное «лицо». Но его истинная суть — это ночь. Холод. Глубина. Звёздная бездна над головой и водная — под ногами. Он не раскрывается, он приоткрывает завесу. Он не пугает, он показывает масштаб.
Первое, что встречает тебя у воды, — не холод и не ослепительная ширь. Первое — тишина. Но не пустота, а плотная, вязкая, материальная субстанция. Воздух густеет, звук твоих шагов становится отчетливым и чужим. И в этом абсолютном, нерушимом постоянстве рождается редчайшее чувство спокойствия. Мир может быть огромным, холодным и глубоким. Но он не враждебен. Он просто требует предельного уважения.
Уезжая, ты понимаешь: он не дал тебе ни сувениров, ни откровений. Но он что-то поправил внутри. Словно невидимая рука выровняла покосившуюся полку в душе. Возможно, именно поэтому о нём говорят не как об озере, а как о присутствии. Молчаливом, глубоком, абсолютном. Которое было до тебя. И которое останется — когда тебя не станет. А в памяти будет жить не просто озеро. А это двойное небо: одно — над головой, другое — под ногами, и тишина между ними, в которой слышен только пульс собственного сердца, отбивающий такт вечности.